Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой - [23]
Новое устройство социальной жизни характеризуется интенсивной динамикой производства условных истин, а также их разоблачения и замещения новыми, подлежащими критике в свой черед. Бальзаковское выражение «утраченные иллюзии» указывает на парадоксальный характер дважды утраченной истины (что такое иллюзия, как не «бывшая истина», — истина, ставшая предметом разочарования?). Двойное отрицание не ведет, как можно было бы предположить, к восстановлению «позитивных» представлений о мире: в «Человеческой комедии» на смену одной иллюзии является другая, а полная безыллюзорность существования едва ли вообще желанна, поскольку чревата обездвижением, смертью желаний и творческих стимулов.
Реалистический роман достигает неслыханной изощренности в жизнеподобии, и происходит это на фоне нарастающего «литературоподобия» социальной жизни. Литература дифференцируется от иных дискурсов — научного, исторического, публицистического, мемуарного, — в то же время изощренно им подражая. Соответственно, в читателе предполагается способность забываться в безупречно «жизненном» мире, ни на миг не забывая о его (этого мира) искусcтвенности, а дополнительно формируется привычка «без особого труда переходить из воображаемого мира чтения в мир повседневной реальности»[118]. Искусство индивидуального маневра в промежутке, зоне смысловой неопределенности можно считать одним из культурных достижений «современности» и опять-таки важным условием обживания нового социального уклада.
Выразителен пассаж на одной из первых страниц «Отца Горио», когда бальзаковский повествователь прерывает начатый было «объективный» рассказ и неожиданно обращается к читателю напрямую, привлекая внимание к форме и способу повествования: «Как ни подорвано доверие к слову „драма“ превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно: пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу». Увы, продолжает далее рассказчик, наша цивилизация устроена так, что вероятнее совсем другое: «взяв эту книгу холеной рукой, [вы] усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: „Быть может, это развлечет меня?“, а после, прочтя про тайные отцовские невзгоды Горио, покушаете с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте же: эта драма не выдумка и не роман. All is true…»[119] Очень важно понять, чтó здесь, собственно, происходит. Рассказчик обращается к своему «настоящему» читателю, то есть, предполагаемо, и к нам поверх гипотетической фигуры, самодовольно рассуждающей в мягком кресле, — с призывом воспринять предлагаемую «драму» иначе, чем этот «бесчувственно» потребляющий субъект, а именно: со всей возможной непосредственностью и со всей возможной осознанностью, то есть сразу в двух режимах, по сути, взаимоисключающих. Только освоившись в этой парадоксальной позиции, оценив «нероманность» романа как творческое достижение автора, читатель имеет шанс встать с ним в отношение равенства и разделенной ответственности. Это — тонкий навык, эстетический и социальный, высоко востребованный в «современности».
Многие в XIX веке считали умножение невидимых взаимосвязей симптомом нового состояния мира. Например, для Диккенса символом этого состояния служит телеграмма-молния, преодолевающая толщу пространства, времени, культурных и иных различий. В начале 1860-х годов он планирует начать будущий роман, соединив посредством телеграфной связи места и сообщества, друг от друга далекие и друг другу совершенно чужие. Метафора, использованная в этом кратком наброске, поднимает бытовой сюжет до теоретического обобщения: «описать телеграмму — самому быть телеграммой (describe the message — be the message), молнией, проблескивающей в пространстве, над землей и под водой»[120]. В форме одновременно емкой и странной здесь выражена мысль о том, что быть современным писателем значит быть посредником в мире, где жизнедеятельность, по определению, есть осуществление связи на расстоянии, а быть современным читателем — значит уметь прослеживать эти связи-трансформации и самому в них участвовать. Аналогом использования электрической энергии, получающей в XIX веке все более широкое применение, можно считать литературное использование метафорической энергии языка.
Метафорой как тропом давно занимается риторика, но в данном случае не о ней речь. Уже на рубеже XVIII–XIX столетий, в культуре романтизма, метафора начинает осознаваться и описываться как нечто большее, чем фигура праздничного украшения речи. Возникает представление о человеке как существе, производящем условные подобия и использующем их, осознанно или бессознательно, как средство ориентации в мире, организации опыта, группировки и перегруппировки ценностей. Гибким мостиком метафора соединяет далекие друг от друга области — чувственного и символического, поведенческого и языкового, художественного (литературного) и социального и т. д., сохраняя в то же время ощущение дистанции между ними. В этом качестве она стала одним из фокусов интереса современной когнитивистики, уже многократно продемонстрировавшей, что метафорами «мы живем»

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
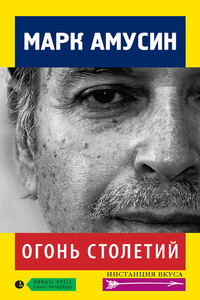
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.