Лисид - [6]
и знакомит их между собой. Тебе не встречались эти стихи?
— Встречались, — отвечал Лисид.
— Так, значит, тебе попадались и сочинения мудрейших мужей, в которых говорится то же самое — что подобное неизбежно будет дружественным подобному? Я имею в виду тех, кто рассуждает и пишет о природе и о вселенной[21].
— Да, — отвечал он, — ты верно на них ссылаешься.
— Так как же, — спросил я, — говорится там правда?
— Быть может, — отвечал он.
— Возможно, эти изречения истинны наполовину, а может быть, и совсем, только мы этого не постигаем. Ведь нам кажется, что, чем ближе и теснее негодный человек общается с другим негодным человеком, тем большим врагом он ему становится. Ведь он чинит ему несправедливость, а между обидчиком и обиженным невозможна дружба. Разве не так?
— Так, — отвечал Лисид.
— Таким образом, половина приведенного высказывания неверна, коль скоро дурные люди подобны друг другу.
— Ты прав.
— Но мне кажется, что сочинители эти считают хороших людей подобными и дружественными друг Другу, что же касается людей дурных, то, как о них говорится, они никогда не бывают в ладу даже с самими собою, напротив, они безрассудны и неуравновешенны; а тот, кто не в ладу с самим собою, но, наоборот, в разладе, едва ли может быть в ладу и дружбе с другим. Не такого ли и ты мнения?
— Да, я с этим согласен, — сказал Лисид.
— Те, мой друг, кто утверждают, что подобное дружественно подобному, кажется мне, дают только понять, что хороший человек может быть другом лишь хорошему человеку, дурной же человек никогда не достигнет истинной дружбы ни с хорошим человеком, ни с дурным. Ты с этим согласен?
Лисид кивнул утвердительно.
— Теперь мы уже понимаем, кто такие друзья: наше рассуждение показывает нам, что это — хорошие люди.
— Да, это очень похоже на правду, — подтвердил Лисид.
— Мне тоже так кажется, — добавил я, — хотя кое-чем я и недоволен в сказанном: давай, во имя Зевса, посмотрим, что я подозреваю. Дружит ли подобный с подобным, насколько он ему подобен, и полезен ли такой человек другому, подобному ему человеку? Или лучше вот так: какую может принести пользу или вред любое подобное любому другому подобному, кои оно не принесло бы себе самому? Либо что оно может претерпеть, если не то, что и от самого себя? Как могут такие подобные люди тянуться друг к другу, если они не могут оказать друг другу никакой помощи? Возможно ли это?
— Нет, невозможно.
— Но может ли быть милым то, к чему нет тяготения?
— Ни в коем случае.
— Значит, подобный подобному — не друг. А хороший человек может быть другом хорошему в той мере, в какой он хорош, а не в той, в какой он ему подобен?
— Возможно.
— Далее, хороший человек, в той мере, в какой он хорош, не довлеет ли настолько же самому себе?
— Да, довлеет.
— Тот же, кто довлеет себе, ни в чем не нуждается по причине этого самодовления.
— Несомненно.
— А тот, кто ни в чем не нуждается, ни к чему и не тяготеет.
— Да, это так,
— Далее, кто не тяготеет к чему-то, тот и не любит.
— Конечно, нет.
— Тот же, кто не любит, — не друг.
— Ясно, что это так.
— Каким же образом — начнем с этого — могут быть хорошие люди друзьями хорошим, если они, будучи далеки друг от друга, не испытывают взаимного тяготения и довлеют самим себе, живя порознь, да и находясь вместе, не могут принести друг другу никакой пользы? И какое ухищрение может заставить таких людей высоко друг друга ценить?
— Да никакое, — отвечал Лисид.
— Ну а не ценя друг друга, они не могут быть и друзьями.
— Это правда.
— Вникни же, мой Лисид, насколько мы отклонились от истины. Пожалуй, мы находимся полностью в заблуждении.
— Как же это? — спросил он.
— Мне случилось некогда слышать от кого-то — сейчас я это припоминаю, — будто подобное подобному и хорошие хорошим в высшей степени враждебны[22]; при этом он ссылался в качестве свидетеля на Гесиода, сказавшего, что
И относительно всего остального он таким же образом утверждал, будто неизбежно, что, чем более одно подобно другому, тем более оба они исполнены взаимной неприязни, зависти и вражды, в то время как самое между собой несходное преисполнено дружбы[24]. Поэтому бедный неизбежно будет другом богатому, слабый — сильному, ибо они могут в таком случае рассчитывать на помощь, болезненный же человек будет другом врачу; и точно так же всякий несведущий человек будет любить и уважать сведущего. В еще более возвышенных выражениях он рассуждал о том, что подобное никак не бывает дружественно подобному, но дело обстоит прямо противоположным образом: величайшая дружба существует между крайними противоположностями. И каждый вожделеет именно к своей крайней противоположности, но не к своему подобию: сухое стремится к влажному, холодное — к горячему, горькое — к сладкому, острое — к тупому, пустота — к наполненности, а наполненность — к пустоте, и все прочее — таким же точно порядком[25]. Ведь противоположное питает противоположное, тогда как подобное не получает ничего от подобного. В самом деле, мой друг, говоря это, он показал себя весьма изысканным человеком: прекрасно ведь это сказано. А вам, — спросил я, — как нравится его речь?
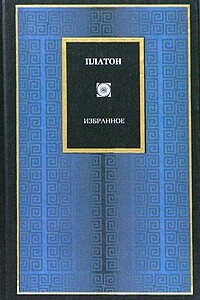
В центре «Апологии Сократа» (392 до н.э.) – первом законченном и дошедшем до нас тексте Платона – проблема несовместимости индивидуальной добродетели и существующего государственного устройства.

В диалоге «Федр» всего два собеседника, мирно сидящих под платанами у почти пересохшей летом реки Илис. Это Сократ и Федр.Тема их беседы напоминает «Пир», хотя здесь нет поисков сущности любви, но зато раскрывается ее неистовая, безумная сторона, ее роль в становлении души на путях блага и в создании подлинной философии, а не пустого красноречия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диалог "Государство" по своим размерам, обилию использованного материала, глубине и многообразию исследуемых проблем занимает особое место среди сочинений Платона. И это вполне закономерно, так как картина идеального общества, с таким вдохновением представленная Сократом в беседе со своими друзьями, невольно затрагивает все сферы человеческой жизни — личной, семейной, полисной — со всеми интеллектуальными, этическими, эстетическими аспектами и с постоянным стремлением реального жизненного воплощения высшего блага.
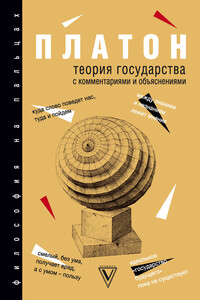
Древнегреческий философ Платон был учеником Сократа, которого высоко чтил, и учителем Аристотеля. Считая, что настоящая философия может существовать только при условии постоянного диалога, Платон и свои произведения написал в такой же форме, сделав главным героем Сократа и вложив в его уста собственные мысли. «Государство» Платона – первая в истории человечества попытка построить модель общества, в котором все были бы счастливы, и модель государства, где каждый бы делал то, что у него лучше получается.
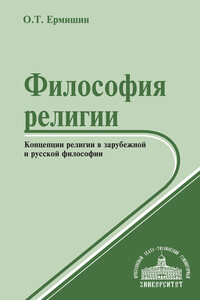
Учебное пособие подготовлено на основе лекционного курса «Философия религии», прочитанного для студентов миссионерского факультета ПСТГУ в 2005/2006 учебном году. Задача курса дать студентам более углубленное представление о разнообразных концепциях религии, существовавших в западной и русской философии, от древности до XX в. В 1-й части курса рассмотрены религиозно-философские идеи в зарубежной философии, дан анализ самых значительных и характерных подходов к пониманию религии. Во 2-й части представлены концепции религии в русской философии на примере самых выдающихся отечественных мыслителей.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

С 1947 года Кришнамурти, приезжая в Индию, регулярно встречался с группой людей, воспитывавшихся в самых разнообразных условиях культуры и дисциплины, с интеллигентами, политическими деятелями, художниками, саньяси; их беседы проходили в виде диалогов. Беседы не ограничиваются лишь вопросами и ответами: они представляют собой исследование структуры и природы сознания, изучение ума, его движения, его границ и того, что лежит за этими границами. В них обнаруживается и особый подход к вопросу о духовном преображении.Простым языком раскрывается природа двойственности и состояния ее отсутствия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
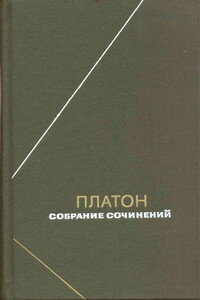
В первый том Собрания сочинений Платона входят ранние диалоги философа, относящиеся к периоду формирования его учения. Идея тома в целом - прослеживание пути становления платонизма. Все тексты заново отредактированы.
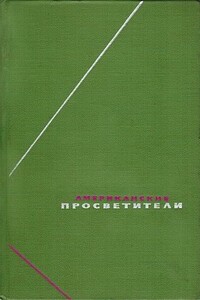
Первый том включает важнейшие произведения прославленного ученого, выдающегося моралиста Б. Франклина («Рассуждение о свободе и необходимости, удовольствии и страдании», «Путь к изобилию», автобиография и др.), героя освободительной войны Итэна Аллена («Разум — единственный оракул человека» — первый в Америке антирелигиозный трактат), видного ученого К. Колдена, развивавшего учение Ньютона («Принципы действия материи» и «Введение в изучение философии»), и основоположника американской психотерапии, борца против идеализма Б.
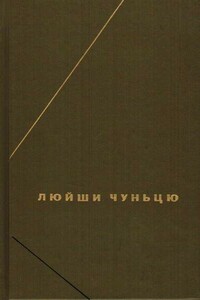
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

