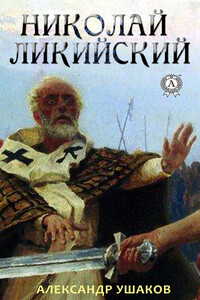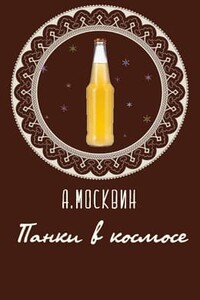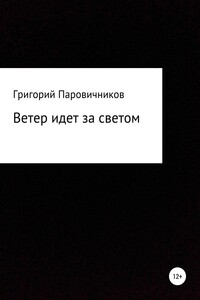Виола покачала головой, глядя в след умчавшемуся щеголю. Давно она столько не смеялась. Он словно вернул Виолу в те времена, когда она еще царила в герцогском дворце в Милане.
— Вертихвостка, — донесся до нее завистливый голос Лучии.
Улыбаясь, Виола пожала плечами, но обернувшись, натолкнулась на внимательно–осуждающий взгляд Симонетты. Реакция Симонетты была ей неприятна. С некоторых пор Виола поняла, что Симонетте нравится нищий, нравится так, как женщине может нравиться мужчина. И если бы не было ее, Виолы, Симонетта наверняка дала бы ему это понять более явно, чем сейчас. Они примерно одного возраста и, вполне возможно, она была бы ему неплохой женой. Но Виола есть, и чтобы там не думала Симонетта, она вовсе не кокетничала с Урбино и не собиралась изменять мужу. И мысль о том, что кто–нибудь насплетничает ему о сегодняшней беседе, не доставляла ей радости.
Виола не чувствовала себя виноватой. Она не сделала ничего, что было бы предрассудительно. И не собиралась этого делать в дальнейшем. Брачные обеты, принесенные в Миланском соборе, не были для нее пустым звуком. Как бы она не относилась к мужу, соблюдать их, для нее было делом чести. Сознание этого оставалось тем немногим, в чем она была по–прежнему уверенна, и Виола не собиралась лишать себя этой уверенности.
Ей трудно было примириться с собой после разочарования, заставившего ее плакать на берегу реки. Вернуть самоуважение оказалось непросто. Ночь за ночью она вспоминала все, что происходило в Милане и после, и пришла к выводу, что нищий был прав — поступай она иначе, она не была бы собой. Да, она оскорбила Неаполитанского короля, но разве он в ответ поступил с ней благородно? Вовсе нет, и это лишало ее всякого раскаяния по поводу сказанных слов. Сожалеть о них лишь из–за постигшей ее затем участи, было бы малодушием.
Сожалеть во имя отца и брата она тоже не могла. Теперь она понимала, что они навсегда отказались от нее, от своих чувств к ней во имя внешнего благородства их рода и благополучия Милана. От ее слов и поступков в Милане никто и ничто не пострадало, за исключением, быть может, надежд отца и гордости брата, но то были чувства, не связанные с ней, такой, какой она была на самом деле.
На самом деле она была совсем другой Виолой, нежели казалась окружающим или даже себе самой. Многое в ней оказалось мнимым — благородство, храбрость, гордость. Многое — неожиданным и неприятным — упрямство, себялюбие, малодушие. Она не знала, как примириться с этой новой Виолой, за что ее уважать. Эта Виола работала в трактире, попирая свою гордость, брала чужие деньги без зазрения совести, была напугана, жестока и озлоблена. И все же, в глубине ее души билось что–то трепетное и важное, что–то рвущееся на свободу и заставившее ее плакать на берегу реки. Но, самое главное — человек, который видел и знал эту Виолу, почему–то не находил ее отвратительной. А если кто–то другой мог относиться к такой Виоле хорошо, то и она сама могла. На большее у нее просто пока не хватало сил.
Как оказалось, граф Урбино не оставил мыслей о длительной осаде. На следующий день он явился в торговый ряд и с напыщенным видом протянул Виоле перстень.
Перстенек был простенький, если не сказать убогий в сравнении с теми, что она носила когда–то. Чем носить такое, Виола предпочла бы обходиться вовсе без драгоценностей, не говоря уже о том, что принять подарок Урбино она сочла бы унижением для себя и оскорблением для мужа.
— Я не могу принять вашего подарка, — холодно ответила Виола.
— Это почему же? — удивился Урбино.
— Я — замужняя женщина, граф.
— Всего–то… — расхохотался тот.
Виола никак не отреагировала, с досадой думая о том, что граф со своим конем плотно загородили ее лоток от всех возможных покупателей.
— Это только начало, — продолжил граф, по–своему истолковав ее недовольство. — Я велю купцам и швеям выбрать лучшие ткани для твоих нарядов. Во дворце есть уютные небольшие покои, как раз рядом с моими…
— Мне не нужны ни подарки, ни наряды, ни, тем более, ваши покои, — прервала его Виола.
Урбино снова истолковал ее ответ по–своему.
— Что ж, ты, как я смотрю, добродетельная и верная жена, — громко сказал он, а наклонившись, добавил: — Хорошо, чертовка, получишь перстень и прочие дары вечером. Приходи к южным вратам дворца, мой паж проводит тебя ко мне.
Виола с трудом удержалась от того, чтобы не расхохотаться ему в лицо, понимая, что этим лишь продлит его увещевания и продолжит бесплатное представление, которым сполна наслаждались окружающие.
Ранним утром следующего дня у входа в лачугу раздался топот копыт. В дверном проеме мелькнул уже знакомый коричневый кафтан.
Сборщик податей цепким, ничего не упускающим взглядом окинул внутреннее убранство лачуги и, остановившись взглядом на ее обитателях, принял еще более суровый и официальный вид.
— Горшечник Гвидо, — громко объявил сборщик, пером делая пометку в своем свитке. — Сообщаю тебе, что ты должен полдуката подушной подати за себя и свою жену.
— Мы все оплатили. Все двенадцать дукатов, — ответил нищий.
— Оплатили двенадцать дукатов, верно. Из них пять — подушной подати, — сверился сборщик со своим свитком. — И теперь должны еще полдуката.