Лавров - [8]
В общем, никакой ясной политической программы у Лаврова в эти годы нет, — лишь безотчетная вера в неизбежность того времени, когда будет царить лишь один «закон для всех» (его Лавров называет даже божественным): осуществление в жизни идеалов свободы, равенства и братства. Правда, до этого далеко: «сонные» народы все еще «преклоняются пред палкою». Но нельзя впадать в отчаяние, истина бессмертна, она вновь воцарится над умами: «Не сомневайтеся — отчаяние грех!»
Следствие 1866 года: «Из дела видно, что найденное у вас стихотворение «Русскому народу» сочинено вами… Комиссия требует от вас откровенного объяснения, с какою целью оно сочинено вами, кому вы читали его или каким другим способом способствовали распространению его…»
У этого стихотворения была предыстория. В 1853 году началась Восточная (Крымская) война, столкнувшая Россию лицом к лицу с более передовыми, капиталистическими странами Европы. Война эта, особенно военные неудачи русских войск, способствовала пробуждению российского общества: по рукам пошли рукописные сочинения, так или иначе осмысливающие внутреннее положение страны. Некоторые из них содержали оппозиционные идеи, критиковали существующие порядки, осуждали крепостное право, охранительную систему самодержавия, засилье чиновничества. Лавров с интересом знакомится с этими материалами, а статью «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России» (как выяснилось впоследствии, ее автором был Н. А. Мельгунов) даже попросил своих близких переписать для него.
Собственное его поэтическое творчество «военных» лет весьма близко по идейной направленности к этой рукописной литературе. Немудрено, что некоторые стихотворения Лаврова той поры начинают также ходить по рукам. Одно из них — «К русскому царю», написанное в начале 1854 года. (Интересно: 24 января 1854 года Лавров — ему всего тридцать с небольшим — составляет духовное завещание. Что это? Уж не предчувствие ли грядущей кары за стихотворную деятельность?) Широко распространенное в списках — под разными названиями — среди петербургской публики, это произведение Лаврова однажды в качестве запретного плода было продекламировано автору кем-то из его знакомых, не знавших, естественно, кто написал его. Патриотическое по духу, содержавшее идею о «гнилости» Запада и о великом предназначении России, стихотворение это, провозглашавшее единство царя и народа, тут же и предупреждало:
Современниками оно воспринималось как яркое изображение и резкая критика российского бюрократического режима, где вся власть отдана в руки бездарных сановников и где царю грозит участь остаться в памяти потомков не «русским праведным царем», а капралом.
Дальше — больше. В конце 1854 года Лавров создает еще одно политическое стихотворение; оно имеет уже другой адрес — «Русскому народу». В нем, по определению следователей 1866 года, выражалась мысль, что «император Николай I, приняв на себя обязанность думать за всех и царствуя самовластно, усыпил через то духовные силы и энергию русского народа и допустил злоупотребления и беспорядки по всем частям государственного управления, что и выразилось в неудачах Крымской кампании».
И действительно, ведущая тема стихотворения — всевластие российского царя, помазанника бога. Но если царский трон — это алтарь, если в представлении Николая «Россия — это я!», тогда то, что называется законом, есть лишь покрывало преступлений — казнокрадства, воровства, взяточничества…
А что же страна? Народ?
Стыдом и горечью переполнены строки стихотворения, рисующие картину общенациональной летаргии:
В этой обстановке даже слабый голос гражданского протеста воспринимался как нелепое мечтание и безумие. Общество издевалось над теми, кто осмеливался звать русских «на брань за правду и Россию», от них, спеша, «бледнея, отрекался вчерашний круг друзей», общественное мнение предавало анафеме вольнодумцев, пропадавших «средь смрада рудников…».
Конечно, патриотическую гордость вызывали и поддерживали военная мощь государства, могущество русского царя «в собраньи королей». Но вот началась война. И, несмотря на героизм солдат, обнаружилась постыдная слабость России…
Лавров призывает родной край восстать «от сна невежества, от бреда униженья», выступить против «чиновных мандаринов». Пред троном деспота народ должен предстать судьей и потребовать от него отчета за кровь всех падших братий…
Нет, Лавров не призывает к уничтожению самодержавия, от имени народа он требует лишь царского покаяния, убеждая самодержца смириться «пред родиной святою». И тогда будто бы народ откроет грешнику свои объятия.
Власти пытались выяснить имя автора этого «пасквиля». Подозрение пало на московского славянофила Алексея Степановича Хомякова, стихотворение которого «Россия» в большом количестве списков также ходило по стране. Узнав о грозящей Хомякову беде, Лавров хотел было раскрыть себя; его удержали. Тогда он послал в Москву историку Михаилу Петровичу Погодину анонимное письмо, с тем чтоб тот имел в руках документ, «свидетельствующий о невиновности г. Хомякова…».
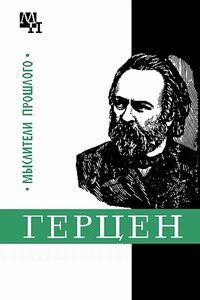
В книге дается анализ философских воззрений великого русского революционера-демократа А. И. Герцена, показывается его отношение к гегелевской диалектике, эволюция его идей. Автор раскрывает своеобразие материализма Герцена, мыслителя, который, как подчеркивал В. И. Ленин, вплотную подошел к диалектическому материализму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
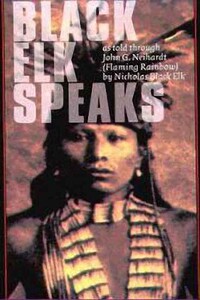
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.
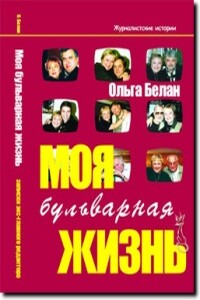
Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.