Лавина - [74]
— Эти осторожные и точные шажки по-балетному развернутых студней… Каждый шаг по сердцу моему! — ударился нечаянно в поэзию. И нахохлился, надулся. Потому что, или так показалось ему, ощутил некое движение, взмах ресниц, явно не соответствующие моменту, а как бы даже наоборот — результат подавляемого раздражения, не то насмешки. — Ты постоянно отворачиваешься от меня, не хочешь смотреть. И сейчас, и раньше. Ты спускалась по трапу, я стоял рядом в метре-двух, скользнула взглядом, будто какой-нибудь, не знаю, дед Мазай перед тобой, я даже не понял, узнала ты меня? Прости, я все это говорю…
Дальше и вовсе вопреки своим великолепно разработанным и отлаженным теориям, как если бы был совершенно уверен, что признания его уместны, их ждут и чего ради молчать, когда переполнен и жаждет раскрыться, — на искренность перешел.
— Наболело. Стало как болезнь, как опухоль, которая сдавливает мне сердце, и я ничего не способен более чувствовать, ничем жить, кроме своей невыносимой, сумасшедшей любви. Я потерял счет дням, месяцам, эта пытка, эта радость… Бывало, стою у театра, — заранее приезжал, зная все спектакли, где ты танцуешь, с утра радостно ждал часа, когда можно ехать, — и вот ты выходила… Помню, как-то взял и спрятался: пусть думает, будто нет меня. Ты появилась из подъезда, не видя меня на привычном месте, обвела медленным взглядом роившихся хлыщей всех возрастов и рангов, — я не утерпел, выскочил из-за «газона», в который грузили почему-то здоровущие молочные бидоны… Ты тотчас отвернулась. Но я был счастлив. Был взбудоражен, воодушевлен: не хочешь смотреть, не хочешь ответить на мое смиренное «добрый вечер», а все равно замечаешь, что я есть, существую на белом свете. Замечаешь!
Знал Жорик, проверял в товарищеских обсуждениях, не раз убеждался на практике: быть правдивым — да ничего нет глупее, и, поддавшись моменту, спешке, уверенный, что Регина исключение, никакие уловки с нею неуместны, шпарил ничтоже сумняшеся, что летело на язык. (Легко касаясь в то же время рукой ее плеча, чуть перебирая пальцами, чувствуя прохладную гладь ее кожи и сильнее волнуясь).
— В другой раз ты демонстративно чмокнула в щеку какую-то матрону поперек себя толще и под ее охраной ринулась к метро. Я как потерянный семенил в десяти шагах, не в состоянии повернуться и уйти. И всякий раз ты делала так, что мои надежды рушились. Но то крохотное, едва уловимое, что существовало между нами, не умирало. Оно разрасталось, мучило меня, восхищало, доводило до неистовства! Готов был врезаться во встречную машину, в фонарный столб…
У него пересохло в горле, не говоря уже, что дрожмя дрожит, но — и это главное — крепнет уверенность, что ее отпор, глухое, враждебное нежелание откликнуться на его призыв — всего лишь дамские штучки. Не отступаться ни в коем случае, жать, жать… И все-таки минутами сомнения находят, едва не отчаяние. И пустота без будущего, без настоящего близко подступает вдруг.
— Хочешь, убью кого-нибудь? Кто сделал тебе худое. Хочешь, сейчас махну в Москву, или где он, тот человек? А не то… сам себя. В горах возможности в этом плане на любой вкус. — Он смеется. Коротким вздрагивающим смехом. Над собой ли, что докатился до подобных признаний, над мнимой нелепостью своих угроз, а не то и над нею: не желает или не умеет видеть дальше собственного носа. — Только мигни, скажи слово. Должно быть, приятно знать, что человек покончил с собой из-за тебя! — саркастически продолжает он. И останавливается. — Я гордый, и я забыл о своей гордости, отбросил ее. Но она болит. Ее нет, а болит, как нога, которую ампутировали.
(Черт знает почему, но какое-то отчаяние снова зреет в нем. Откуда? Никаких причин, и поди же!..)
— Или всю кровь, не стакан, не литр, целиком, сколько есть, отдам какому-нибудь идиоту, влетевшему в автомобильную катастрофу. Сердце тоже — инфарктнику, собравшемуся окочуриться. Понимаешь, мне ничто не интересно, не нужно, не важно, я ничем не дорожу, ничего в моей жизни нет, что было бы ценно само по себе, без тебя. Наука — просто дело, которым занимался, надо же как-то проводить время. С тем же успехом складывал бы из кирпичиков стены или писал газетные статейки, вроде нашего одного, да ты знаешь. Альпинизм, я приметил, тебя раздражает, подумаешь, альпинизм! Не хотел отстать от других, уступить хоть в чем-то твоему дражайшему супругу.
Притягивает ее к себе; она, сама не замечая того, поддается.
— И ведь не месяц, не два — третий год маюсь, строю планы, стремлюсь… — едва не кричит Жорик, забыв о всякой осторожности. К счастью, поблизости никого. Отбой был, порядки в санатории строгие, отдыхающие давно разошлись по своим комнатам. — Как же я ему завидовал! — За взлетами следуют падения: вдруг уйдет? Жорик обращается к своей второй натуре, становясь ласковым и послушным, разве что нетерпение мешает. — Помню, сперва даже симпатичен мне был, когда познакомились, прошлый год в горах. Как бы твоя вещь, что-то, что тебе нужно, ну, как… Неважно, что, — оборвал он себя. — И как же теперь… Думать о нем не могу спокойно. Так бы, кажется…
— Ты не смеешь! Скажите, выискался! — вспыхнула Регина и отстранилась от него, словно очнувшись от дремотной какой-то истомы, в которую погружалась то ли под влиянием Жориного темпераментного журчания, то ли благодаря не мучающим больше, но успокаивающим размышлениям о Сереже: все правильно, так и следует себя держать, потому что Сергей, Сергей… бессовестно равнодушен, не желает ни заботиться, ни тревожиться, ни думать о ней… — Мой муж — это мой муж! — резко выговаривает она. — Никакого тебе не должно быть дела, какой он, что и почему. — Она пытается встать со скамейки.

Рассказ о последних днях двух арестантов, приговорённых при царе к смертной казни — грабителя-убийцы и революционера-подпольщика.Журнал «Сибирские огни», №1, 1927 г.
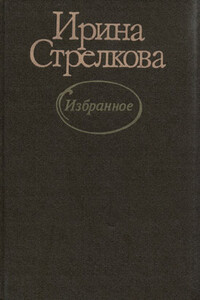
«— Священника привези, прошу! — громче и сердито сказал отец и закрыл глаза. — Поезжай, прошу. Моя последняя воля».

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
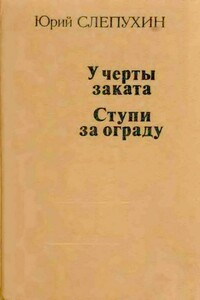
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.