Курс на худшее - [80]
(Мэрфи, 176–177)
Выйдя из состояния транса, Мэрфи обнаруживает, что господин Эндон бродит по коридору и нажимает на кнопки сигнализации, следуя при этом «какой-то аментальной системе, столь же точно разработанной, что и его система игры в шахматы» (Мэрфи, 177; курсив мой). Застигнутый Мэрфи врасплох, Эндон возвращается к себе в палату. Мэрфи раздевает его и укладывает в постель. Лежа без движения на спине, Эндон обращает свой взор к космическим пустотам, окружающим его. И тут Мэрфи не может устоять перед соблазном попытаться еще раз установить с ним контакт. Он становится на колени, берет голову Эндона в свои руки и погружает свой взгляд в его глаза.
Волосы господина Эндона торчали между пальцев коленопреклоненного Мэрфи, подобно жестким черным пучкам виноградных веток; их губы, носы и лбы почти соприкасались; и вдруг Мэрфи ощутил такую настойчивую потребность произнести слова, которые пришли к нему откуда-то издалека, что произнес их прямо в лицо господину Эндону, — и это Мэрфи, который почти всегда молчал, а если и говорил что-то, то лишь в ответ на вопрос, да и то не всегда!
(Мэрфи, 179)
Эти слова обладают внутренней потребностью быть произнесенными, они рвутся из горла Мэрфи, тело которого становится их послушным носителем. Для того чтобы родиться, им нужно тело, и они выбирают тело Мэрфи, подобно тому как мелодия из «Тошноты», которая тоже приходит откуда-то издалека, выбирает тело нью-йоркского еврея. Они приходят из той зоны, где царствует абсолютная свобода и где нет места ни Мэрфи, ни безымянному американскому композитору. Правда, Мэрфи удается иногда туда проникать с помощью несложных йогических упражнений: раздевшись и привязав себя к креслу-качалке, он любит отдаваться ритму его колебаний, до тех пор пока не наступит полный транс[376]. Проблема состоит в том, что волей-неволей ему приходится выходить из транса, возвращаться из зоны, в которой господин Эндон пребывает постоянно. Эндон, в отличие от своего санитара, знает лишь одну реальность — реальность отсутствия.
В последний раз господин Мэрфи увидел господина Эндона тогда, когда господин Эндон уже не замечал господина Мэрфи. Тогда же Мэрфи увидел и себя в последний раз, — такова истина, которая внезапно открывается Мэрфи.
(Мэрфи, 179)
Важно, что даже если Эндон и видит Мэрфи, он его не замечает. Иными словами, Эндон не отдает себе отчета в том, что видит Мэрфи, а его глаз при этом напоминает глаз рыбы, который смотрит на объект, но не замечает его. Этот ничего не замечающий глаз отличает его от других людей, от тех, кого Сартр называл «подонками» и которые
дорожат тем, что все думают одно и то же. Стоит только посмотреть на выражение их лиц, когда среди них появляется вдруг человек с взглядом, как у вытащенной из воды рыбы, устремленным внутрь себя, человек, с которым ну никак невозможно сойтись во мнениях.
(Сартр, 23)
Рокантен вспоминает, как один из таких людей приходил посидеть в Люксембургский сад, когда сам Рокантен был еще мальчиком: «Он не говорил ни слова, но время от времени вытягивал ногу и с испугом на нее смотрел»; Рокантену и его друзьям он внушал неподдельный ужас, поскольку они чувствовали, что «в его голове шевелятся мысли краба или лангуста» (Сартр, 23, 24). Этот ужас так с тех пор и не прошел, недаром Рокантен опасается, что его самого ждет похожая участь. Ужас Рокантена иррационален по своей природе, ведь на самом деле человек с рыбьими глазами не такой, как все, он другой, а разве не к этому стремится сам герой романа?
Время от времени человек из Люксембургского сада вытягивает ногу и с испугом смотрит на нее; Рокантен, со своей стороны, говорит, что избегает смотреть на пивную кружку из страха, как бы она не превратилась в живое существо; наконец, Эндон смотрит на Мэрфи, но не замечает его. Можно предположить, что перед нами три способа взаимоотношений с реальностью.
Действительно, Тошнота пришла к Рокантену как болезнь, постепенно пускающая корни в организме, и только после того как она в нем укрепилась, сознание Рокантена стало отдавать себе отчет в ее присутствии. В сущности, Тошнота пришла к Рокантену точно так же, как к американцу пришла мелодия; обе они поднялись из глубин, куда не проникает свет сознания. Осознав Тошноту, назвав ее, Рокантен тут же пытается сделать вид, что ее не существует, поэтому он и старается не глядеть на пивную кружку. И тем не менее он не может не отдавать себе отчета в том, что он уклоняется от встречи с Тошнотой: «<…> вот уже полчаса я избегаю СМОТРЕТЬ на эту пивную кружку», — признается Рокантен (
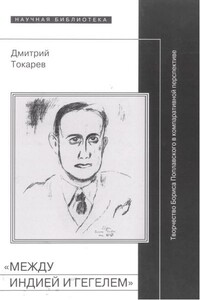
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
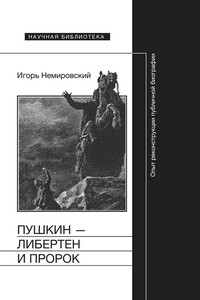
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.