Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика - [5]
Для поэтов «россеян» этот процесс сложнее. Он, так сказать, удвоен. Ряд, указанный выше, усиливается специфическими чертами, присущими реакционной патриархальщине кулачества. Мы имеем в виду мистическо-религиозный пантеизм и мистицизирование предметов бытового обихода. Первый сказывается в обожествлении природы как единственной подательницы благ, а второй— в придании всем вещам, предметам живой потребительско-мистической сущности. Поддержание во всей ортодоксальной неприкосновенности мистических суеверий в соответствии с тем, что на неприкосновенности устоев (бог — земля— «удача»), на иерархичности всего окружающего «всходит» его жизнь.
Творчество разбираемой триады демонстрирует перед нами поразительную по яркости картину реакционной «крестьянской» мистики. Она стара, как Русь, и во всей ее нерушимости стараются поэты-«россеяне» подать ее спокойную, «вековечную» красоту, чтобы противопоставить динамичности нашей эпохи.
Сохранены на разживу «звериный бог Медост», «верезжащий в осоке проклятый (некрещенный— О. Б.) младенчик»; «пасет преподобный Аверкий на речке буланых утят» (Клюев); «Лель цветами все поле украсил», «лик троеручицы», «очажный бес» (Клычков) и т. п. Много можно перечислить из этой «современной» компании.
Мастерство поэтов-«россеян» утончает, рафинирует религиозно-мистические переживания; оно проникнуто молитвенным восприятием природы.
Клычков и Клюев во всех сравнениях и уподоблениях природы положительно являются большими мастерами жанра «церковного пейзажа».
У Клюева «месяц— божья камилавка»; «молвь отшельниц — елей»; «монашенка… мгла»; «как ангелок поет снегирь»; апрель — «с вербой монашек, на груди образок», «солнце — божья коровка», которую надо «аллилуйем встречать», «лики ангелов в бору», «лесные сумерки — монах»; «богомольно старцы-пни внимают звукам часословным», «заря тускнеет венчиком иконным».
Вот весна в изображении Клюева:
От Клюева не отстает Клычков. Образы совпадают. Они зявляются стандартными и изготовлены конечно давным-давно, в предреволюционное время под сенью самодержавия и православия. Как и у Клюева, старорусское язычество перерастает в церковность. «Звезда горящая, как свечка, пред светлым праздником зари». Только и отдыха, что на лоне природы-церкви:
Если у Клюева религиозность мистическо-философского, средневекового склада, то у Клычкова она сентиментально-бытовая, елейно истовая:
Как указывалось выше, мистическая религиозность «россеян» окрашивает не только отношение к природе. Она становится особенно характерной, когда прикасается к вещам обиходным. Делание вещей и продуктов— это не просто производственный процесс, это мистерия утверждения своего господства, своих дальнейших возможностей. Это свято, это от бога, который крупицу своей сущности вкладывает в каждую новую вещь, в каждую лишнюю ковригу; от бога, который, покровительствуя патриархальной идиллии, одновременно защитит от вражеской антихристовой силы города.
Не просто изба строится— изба рождается указанием свыше, она рождением своим выполняет тайную волю бога— покровителя «хозяев». Постройка избы— мистерия:
(Клюев, Рождество избы)
Хлеб по существу, по правилу, надо было бы копить. Если его едят, то это уж своеобразная жертва, закланье. Это— серьезное, обрядное событие:
Все и вся преломляется через вещь, через продукт, через «хозяйскую», кулацкую психологию. Та самая природа, что, вся обмусоленная елеем, изображалась храмом, — маниакально, превращается в своеобразно расширенное хозяйство:
(Клюев)
Вот уж, воистину, милый кулацкий пейзаж!
Нужно со всей определенностью сказать, что, сколь бы в деталях ни разнилось творчество этой триады поэтов-«россеян», — все трое являются выразителями кулацко-патриархальной стихии, символ веры которой мы находим в стихотворении Клычкова:
В то время как в деревню все больше и больше проникает советская терминология, в то время как язык деревни и города все больше и больше вклиниваются друг в друга (влияет больше городской язык), «россеяне» стараются нарочито архаизировать язык, приблизить его к исконным славянотатарским истокам. Это вполне естественно и закономерно. Классовые группировки одного порядка, противопоставляя себя своим социальным антагонистам, всегда стремятся отмежеваться во всех бытовых областях. Отмежевание в области языка, костюма и убранства наиболее внешне показательны. Словесное выражение образов и понятий всегда дает возможность судить о классовом осознании реальных отношений и предметов. Язык поэтов-«россеян» каждым своим словом утверждает в нашей действительности, закономерно впитывающей массу интернациональных языковых понятий, «очарованье» древней «патриархальной» Руси. По книгам Клычкова рассыпаны Дубравны, Лели, Дулейки и т. п. Он с особым удовольствием превращает «облако» в «облак» (чтоб звучало поржанее). Но совершенно исключительную картину в этом отношении представляет язык Клюева. Он доводит языковое отмежевание Руси от СССР до предела, колдуя словами, придавая им шаманий смысл.
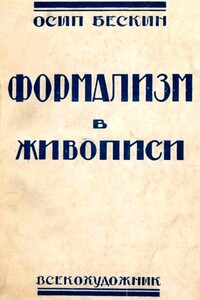
Формализм в любой из областей искусства, в частности, формализм в живописи, является сейчас главной формой буржуазного влияния. Не случайно вся советская общественность, и непосредственно голосами рабочих аудиторий, рабочих зрителей, и голосами представителей марксистской критики, единодушно утверждает вредность и реакционность формалистского творчества.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.