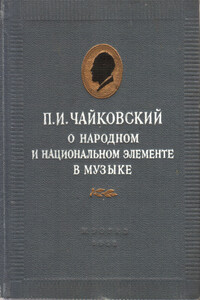Критические статьи - [35]
Особенно интересны его откровенные беседы о музыкальных делах, на что его, однако, не все и не всегда могут вызвать. Как музыкант Лист, в противоположность Вагнеру, видимо, тяготеет более к музыке концертной, симфонической и т. д., нежели к оперной; и в оперной он по преимуществу интересуется более чисто музыкальною стороною, нежели сценическою. Новой немецкой школы, кроме Вагнера, он вообще не жалует. По его мнению, большею частию произведения ее бледны, бесцветны, утратили свежесть, интерес и жизненность. Симпатии его на стороне новой французской и в особенности новой русской школы, произведения которой он ценит высоко, изучает и знает основательно. Они не сходят у него с рояля; он играет их сам, играют и ученики его. Четырехручные вещи, которыми он увлекается или интересуется, он любит переигрывать чуть не с каждым учеником или пианистом, подвернувшимся под руку. При этом он разбирает музыку по косточкам и отмечает все выдающееся и оригинальное. Такой период увлечения какой-либо вещью продолжается у него довольно долго. Высоким интересом Листа к новой русской школе, симпатиями к ней и влиянием на другие музыкальные элементы Германии нужно объяснить то обстоятельство, что, например, такие чуждые немецкому уху вещи, как моя 1-я симфония и «Антар» Римского-Корсакова, не только исполнялись на фестивалях в Баден-Бадене и Магдебурге, но имели там большой успех и встретили крайне сочувственное отношение немецкой прессы. Как явный пример симпатии Листа к русской новой школе могу привести еще известное, необыкновенно сочувственное письмо Листа и печатное мнение его о пресловутых «Парафразах»>1, вызвавших маленькую бурю в стакане воды среди наших рецензентов; далее еще то обстоятельство, что, узнав про эту бурю, Лист выразил желание «скомпрометироваться вместе с нами» и написал с своей стороны маленькую вариацию для помещения в виде интродукции к одному из нумеров при втором издании «Парафраз», что и сделано издателем согласно желанию Листа. Лист очень любит эти «Парафразы» и даже возил их с собою из Веймара в Магдебург во время фестиваля, заставляя всех и каждого — пианистов, певцов и проч. — играть их с ним. Еще доказательство: он очень любит и высоко ценит «Исламея» Балакирева и дает его играть своим ученикам; пьесу эту превосходно играла одна из самих любимых его учениц, наша талантливая соотечественница В. В. Тиманова; другой ученик его — Фридгейм играл эту пьесу в своих концертах, даже за пределами Европы. Наконец, это доказывают его собственные переложения, например, вещей Чайковского, а также исполнение их в его концертах и т. д.
Кстати об его игре: вопреки всему, что я часто слышал о ней, меня поразила крайняя простота, трезвость, строгость исполнения; полнейшее отсутствие вычурности, аффектации и всего бьющего только на внешний эффект. Темпы он берет умеренные, не гонит, не кипятится. Тем не менее силы, энергии, страсти, увлечения, огня — несмотря на его лета — бездна. Тон круглый, полный, сильный; ясность, богатство и разнообразие оттенков — изумительные. Играть вообще он ленив. Публично он давно уже не играл, а только в частных обществах, и то немногих, избранных. Теперь даже знаменитые matinées у него на дому прекратились. Чтобы заставить его сесть за рояль, нужно часто прибегать к маленьким хитростям: попросить, например, напомнить то или другое место из какой-нибудь пьесы, попросить показать, как следует играть какую-либо вещь; заинтересовать какою-нибудь, музыкальною новинкою, иногда даже просто дурно исполнить что-либо,— тогда он рассердится, скажет, что так играть нельзя, сам сядет за рояль и покажет, как нужно играть. Теперь его можно иногда слышать на занятиях с учениками, где он нередко, начав показывать, как нужно играть какое-либо место в пьесе, увлечется и сыграет всю пьесу. Играя с кем-либо в 4 руки, он большею частью садится на secondo. Читает ноты и партитуры он, разумеется, превосходно, но теперь он плохо видит и, не разглядев иногда какого-нибудь знака, сердится и с досады черкнет карандашом на нотах чудовищный бекар или диез и т. д. Разыгрывая какую-либо вещь, он иногда начинает прибавлять к ней свое, и мало-помалу из-под его рук выходит уже не самая вещь, но импровизация на нее — одна из тех блестящих транскрипций, которые составили его славу как пианиста-композитора. Уроки у него бывают большею частью два раза в неделю, после обеда; начинаются с 4>!/>2 часов и продолжаются часа полтора, два и более. Посторонним лицам, не получившим особого приглашения от самого Листа, трудно попасть на такой урок. Черногорский Лепорелло обыкновенно категорически отказывается даже доложить Листу о приезжающих в часы урока. На каждом уроке бывает около десяти, пятнадцати, даже двадцати человек учащихся, в числе которых перевес на стороне пианисток. Играют обыкновенно не все, а только часть из них, причем никакого определенного организованного порядка не соблюдается. Урок состоит в том, что ученики проигрывают Листу то, что они приготовили; он слушает, останавливает, делает замечания и сам показывает, как нужно играть то или другое. Лист никогда не задает никому ничего сам, а предоставляет каждому выбрать что угодно. Впрочем, ученики всегда прямо или косвенно справляются о том, приготовить ли им ту или другую пьесу или нет, так как случается, что, когда начнут играть что-либо не нравящееся Листу, он без церемонии остановит и скажет: «Бросьте, охота вам играть такую дребедень!» или сострит что-либо по поводу выбранной вещи. Собственно на технику в узком смысле он обращает мало внимания, а главным образом упирает на верную передачу характера пьесы, экспрессии. Это объясняется, между прочим, тем, что за очень редкими исключениями у него все ученики уже с вполне выработанной техникой, хотя учившиеся и играющие по разным системам. Собственно своей личной манеры Лист никому не навязывает, мелочных требований относительно держания, постановки пальцев, приемов удара никогда не предъявляет, отлично понимая, что индивидуальность играет здесь большую роль. Впрочем, он никогда не отказывается показать и разъяснить свои приемы, когда видит, что ученик затрудняется в исполнении. Отношения между Листом и его учениками — фамильярные и сердечные, нисколько не напоминающие обыкновенные формальные отношения между профессором и учеником. Это скорее отношения детей к доброму отцу или внучат к дедушке. Ученики и ученицы, например, без всякой церемонии целуют у Листа руку; он целует их в лоб, треплет по щеке, подчас ударит по плечу, и довольно крепко, заставляя обратить на что-либо особое внимание. Ученики вежливо, но совершенно свободно обращаются к нему со всякими вопросами, от души смеются его шуткам, ему умному и подчас едкому юмору, который при всем его добродушии проскальзывает в его замечаниях, всегда дельных и серьезных по существу, хотя и легких по форме. Как человек в высшей степени благовоспитанный и с тактом, Лист умел поставить себя так, что, несмотря на крайнюю разношерстность своих учеников, в их взаимных отношениях никогда не проскользнет ничего грубого, неловкого, резкого.

«…Итак, желаем нашему поэту не успеха, потому что в успехе мы не сомневаемся, а терпения, потому что классический род очень тяжелый и скучный. Смотря по роду и духу своих стихотворений, г. Эврипидин будет подписываться под ними разными именами, но с удержанием имени «Эврипидина», потому что, несмотря на всё разнообразие его таланта, главный его элемент есть драматический; а собственное его имя останется до времени тайною для нашей публики…».

Рецензия входит в ряд полемических выступлений Белинского в борьбе вокруг литературного наследия Лермонтова. Основным объектом критики являются здесь отзывы о Лермонтове О. И. Сенковского, который в «Библиотеке для чтения» неоднократно пытался принизить значение творчества Лермонтова и дискредитировать суждения о нем «Отечественных записок». Продолжением этой борьбы в статье «Русская литература в 1844 году» явилось высмеивание нового отзыва Сенковского, рецензии его на ч. IV «Стихотворений М. Лермонтова».

«О «Сельском чтении» нечего больше сказать, как только, что его первая книжка выходит уже четвертым изданием и что до сих пор напечатано семнадцать тысяч. Это теперь классическая книга для чтения простолюдинам. Странно только, что по примеру ее вышло много книг в этом роде, и не было ни одной, которая бы не была положительно дурна и нелепа…».

«Вот роман, единодушно препрославленный и превознесенный всеми нашими журналами, как будто бы это было величайшее художественное произведение, вторая «Илиада», второй «Фауст», нечто равное драмам Шекспира и романам Вальтера Скотта и Купера… С жадностию взялись мы за него и через великую силу успели добраться до отрадного слова «конец»…».

«…Всем, и читающим «Репертуар» и не читающим его, известно уже из одной программы этого странного, не литературного издания, что в нем печатаются только водвили, игранные на театрах обеих наших столиц, но ни особо и ни в каком повременном издании не напечатанные. Обязанные читать все, что ни печатается, даже «Репертуар русского театра», издаваемый г. Песоцким, мы развернули его, чтобы увидеть, какой новый водвиль написал г. Коровкин или какую новую драму «сочинил» г. Полевой, – и что же? – представьте себе наше изумление…».

«Имя Борнса досел? было неизв?стно въ нашей Литтератур?. Г. Козловъ первый знакомитъ Русскую публику съ симъ зам?чательнымъ поэтомъ. Прежде нежели скажемъ свое мн?ніе о семъ новомъ перевод? нашего П?вца, постараемся познакомить читателей нашихъ съ сельскимъ Поэтомъ Шотландіи, однимъ изъ т?хъ феноменовъ, которыхъ явленіе можно уподобишь молніи на вершинахъ пустынныхъ горъ…».