Красный ледок - [3]
В нашей же семье моя запись в колхоз была прежде всего ударом по отцу. Только что став на ноги, обзаведясь хозяйством и уже получая прибыль от него, он был огорошен сообщением односельчан:
— Твой Петручок чуть ли не первым записался!
Про меня говорила вся деревня. Получилось действительно как-то очень неожиданно. На первые собрания, которые проводились в деревне, отец не пошел. От меня он не скрывал, что таким путем хочет уклониться от записи в колхоз, выждать, посмотреть, что будут делать другие, подумать.
Мне так поступать было нельзя. И вот почему.
Из своей деревни я один ходил в Тихославичскую семилетку. Одним из первых закончил я четыре класса начальной школы и решил учиться дальше. Каждый день мне приходилось отмеривать больше двух километров до школы и столько же назад, в свою деревню. Тяга к учебе, однако, сокращала и делала незаметным это расстояние.
Зато меня замечали все, поскольку я каждый день ходил в школу и приносил из Тихославич разные вести. Тихославичи — местечко. В Тихославичах — почта, сельсовет, больница, лесничество, один из первых в районе еврейский колхоз «Найлебен», семилетняя школа. Сюда в первую очередь приходили разные новости, установки о том, как строить жизнь, утверждать новые порядки.
Когда началась коллективизация, пришло указание по комсомольской линии: всем комсомольцам первыми вступать в колхоз. И вот после шумного школьного собрания, где решили «ударить по кулаку», я шел домой с готовым решением — вступить в колхоз первым и, таким образом, увлечь за собой родителей.
Так на одном из собраний, которое длилось до вторых или до третьих петухов, я уже не только был записан в колхоз, а даже вел протокол собрания, занося в него все, что говорилось, записывал первых колхозников, которых возглавил мой дядя, коммунист Игнат Дрозд.
Осунувшийся от бессонницы, с шумом в голове, возвращался я тогда домой. Тихонько, будто провинившись в чем, открыл калитку, затем дверь в сени, а потом и в хату. Не раздеваясь, лег с краю на нары, подложив руки под голову.
Отец спал. Он еще ничего не знал, так как и на сегодняшнее собрание не пошел. Думал, что все обойдется, без него решится и решится именно так, как выгодно ему: одни пойдут в колхоз, другие — поживут единолично. С последними хотелось и ему, молодому хозяину, пока что остаться.
А утром, конечно, он прослышал о собрании и о моем решении быть в числе первых колхозников, прослышал и о том, что я даже секретарствовал на собрании.
Как он реагировал на это, я уже рассказал.
Хорошо помню, что происходило в доме после моего вступления в колхоз. Мать плачет, отец скандалит, младшие ребята попрятались кто куда и, выглядывая из своих углов, приготовились слушать, как я буду ссориться с отцом, что буду ему говорить, как буду защищаться.
— Не будет по-твоему, — повторил отец в который раз, похаживая взад-вперед. — Цыплята кур никогда не учили и учить не будут…
Переживал он сильно, глубоко. Я сам понимал, что ему трудно справиться с той задачей, которую я, сын его, перед ним поставил. Не мог он просто вот так отмахнуться от происходящего, да и со мной порвать нелегко. Надо было думать, соображать.
Мать незаметно поглядывала на меня. Она знала, что молчать я не буду, знала, что я скажу то, о чем всем говорит ее брат Игнат, о чем говорят нам в школе. И я не молчал. Тихо, но как можно увереннее, я говорил:
— Учить, тата, мы никого не собираемся… Мы только советуем, убеждаем… И убедим. Я знаю, что все нам скоро поверят. И не по-моему, а по-нашему будет!..
Говорил я, действительно, как взрослый, говорил довольно спокойно, но на отца не смотрел, не видел, как он воспринимал мои слова, глядел себе под ноги, будто там, на полу, было что-то написано.
Отца, однако, задели мои слова: «все нам скоро поверят».
И он с раздражением ответил:
— Все? Те, что бобылями жили, и в колхозе бобылями останутся, потому что работать ни за что не будут… Им лишь бы вступить… (Бобылями у нас почему-то называли самых отъявленных лодырей).
Действительно, после этих слов отца я подумал, что и на самом деле братья Семеновы, двое Алексеевых — Мартин и Харитон — и Стригун Никодим первыми записались в колхоз. А у них, как говорится, ни кола ни двора. Вот уже сколько лет, как их советская власть наделила землей, а до сих пор на ноги не стали, хозяйство свое никто из них не наладил. Я думал об этом, а отец тем временем не сдавался, наступал более решительно:
— Таким хоть сразу в коммунию… Им бы только за ложку большую ухватиться. На все готовенькое метят. На чужом горбу да в рай, живи — не помирай…
Говорить он умел, мой отец. Нелегко мне было с ним. спорить, особенно отвечать на его острые поговорки.
— А все же будет в колхозе рай! Будет! — Я начинал горячиться. — Но только для тех, кто будет трудиться. Что заработал, то и получай!.. Вот какой рай…
Не помню, вычитал ли я об этом в книгах или, может, услышал от представителей, выступавших на наших собраниях, но получалось неплохо. Отец, словно завороженный, смотрел на меня. Видно, слова мои были сказаны вовремя и упали на добрую, как говорится, почву. И ему, человеку-труженику, дали ответ на самое сокровенное, что его мучило, волновало. Я-то знал, как отец в те дни переживал, ходил сам не свой. По ночам ворочался с боку на бок и вздыхал. Ему было трудно. Очень трудно. Я это видел, понимал и жалел его. Даже обида за мокрые вожжи отступала, отдалялась куда-то, хотя и не забывалась.
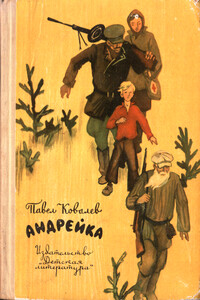
Повесть рассказывает о Великой Отечественной войне, о белорусских партизанах, об участии в партизанской борьбе мальчика Андрейки, о его подвигах. «Мать и сын» — так назвал автор первую часть книги. Вторая — «Отец» — повествует о первых послевоенных годах в Белоруссии, о поисках Андрейкой своего отца, о его учебе и дружбе со сверстниками.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
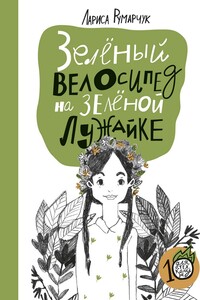
Лариса Румарчук — поэт и прозаик, журналист и автор песен, руководитель литературного клуба и член приемной комиссии Союза писателей. Истории из этой книжки описывают далекое от нас детство военного времени: вначале в эвакуации, в Башкирии, потом в Подмосковье. Они рассказывают о жизни, которая мало знакома нынешним школьникам, и тем особенно интересны. Свободная манера повествования, внимание к детали, доверительная интонация — все делает эту книгу не только уникальным свидетельством времени, но и художественно совершенным произведением.

Повесть «Федоскины каникулы» рассказывает о белорусской деревне, о труде лесовода, о подростках, приобщающихся к работе взрослых.

Рассказы о нелегкой жизни детей в годы Великой Отечественной войны, об их помощи нашим воинам.Содержание:«Однофамильцы»«Вовка с ничейной полосы»«Федька хочет быть летчиком»«Фабричная труба».
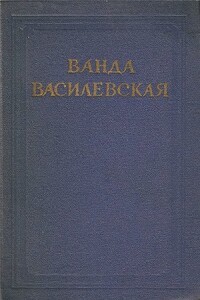
В 6-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли пьеса об участнике восстания Костюшко 1794 года Бартоше Гловацком, малая проза, публицистика и воспоминания писательницы.СОДЕРЖАНИЕ:БАРТОШ-ГЛОВАЦКИЙ(пьеса).Повести о детях - ВЕРБЫ И МОСТОВАЯ. - КОМНАТА НА ЧЕРДАКЕ.Рассказы - НА РАССВЕТЕ. - В ХАТЕ. - ВСТРЕЧА. - БАРВИНОК. - ДЕЗЕРТИР.СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГОДневник писателя - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТУРЬЕ. - СОЛНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯ. - МАЛЬВЫ.ИЗ ГОДА В ГОД (статьи и речи).[1]I. На освобожденной земле (статьи 1939–1940 гг.). - На Восток! - Три дня. - Самое большое впечатление. - Мои встречи. - Родина растет. - Литовская делегация. - Знамя. - Взошло солнце. - Первый колхоз. - Перемены. - Путь к новым дням.II.
