Красный ледок - [15]
За партой сидел, как на угольях, будто чужой в классе. Никого, как мне казалось, это не интересовало, никому мое настроение не передавалось, никого не волновало. Мне показалось, что все от меня отвернулись, что для всех я был уже лишний, ненужный.
Ни по одному предмету в тот день меня не вызвали. И от всего этого мне было так горько, так тяжело, что и высказать не могу.
Скажу вам откровенно — таких переживаний, какие начались с этого понедельника, мало кто из моих друзей перенес в своей жизни.
И вот на классном собрании, о котором объявили после уроков, началось. Секретарь комсомольской ячейки школы сказал первым:
— Он (это значит я) помог кулакам… Иначе нельзя расценивать его поступок. Он, по существу, вел агитацию против колхозов… Он помог развалить колхоз, который с таким трудом был организован… Отец его одним из первых вышел из колхоза… Так может ли такой ученик быть в комсомоле и в школе…
В классе, где происходило собрание, воцарилась мертвая тишина. Секретарь говорил так серьезно и бросал мне такие обвинения, что становилось страшно не только мне. Видно было, что секретарь говорил не только от своего имени. И все ученики-комсомольцы притихли, задумались, когда услышали слова:
— Исключить!
После небольшой паузы начали выступать и другие. Что они говорили, я уже не слышал. Когда же мне дали слово, я не мог и языком пошевелить.
Мне было так тяжело, что я, признаться, заплакал. Стыдно, конечно, так себя вести, но ничего другого я не мог в тот момент сделать. И хоть это вызвало сочувствие у некоторых, секретарь комсомольской ячейки продолжал гнуть свое — нападал:
— Нюни распустил, а ведь знал, что делал!
Кто-то из преподавателей заметил:
— Он, наверное, не знал, что так все обернется…
Секретарь, однако, не обратил внимания на эти слова.
А кто-то из задних рядов выкрикнул:
— Пусть колхоз восстановит — тогда и учиться будет!
И все же я попытался как-то объяснить, почему вынужден был прочитать односельчанам статью «Головокружение от успехов». Тихо, всхлипывая, с каким-то, действительно, сознанием своей вины. Но меня уже не так внимательно слушали. Видно было, что мне не верят. Значит, не избежать ответственности. Теперь я думаю, что тогда такое отношение было ко мне еще и потому, что был я не местный, ну, не тихославичский, а из соседней деревни.
Один, и не нашлось у меня товарищей, которые могли бы за меня заступиться или хотя бы открыто высказать свое несогласие. А все тихославичские, тогда же организовавшиеся в колхоз, не разбегались, статья на них так, как на наших, не подействовала. Там вовремя растолковали людям ее содержание и направление, ее подлинный смысл. Статья же была направлена против перегибов, против недостатков, а не против добровольно организованных колхозов. Так людям и сказали:
— Нас это не касается… Пускай исправляют ошибки те, кто их допустил.
Действительно, в Тихославичах никто и не попытался выходить из колхоза, забирать назад обобществленное имущество.
Вот так.
Школьное собрание закончилось довольно быстро, решение было принято, как говорится, единогласно.
Меня исключили из комсомола и потребовали исключения из школы. Тут же директор перед всеми сказал, что он подписывает приказ и лишает меня права посещать Тихославичскую семилетку.
В одно мгновение большая классная комната опустела, и я остался один. Один-одинешенек. Будто на льдине в большом речном разливе или на каком-то острове после гибели корабля. В голове роились, возникали какие-то картины из недавно прочитанных приключенческих книг.
Едва владея собой, я собрал свои манатки. И, как ни был встревожен, все же заметил — учебника по русскому языку, который мне обычно давала моя соседка по парте, Майя Михалева, не было. Значит, все, все от меня отвернулись, никто меня не жалеет. Тихо, словно сквозь туман, вышел я из класса. В коридоре тоже стояла тишина, никого не было. И только когда я уже одевался, заметил возле себя Софью Марковну. Она старалась не смотреть мне в глаза и, как бы между прочим, бросила мне:
— Скажи своим родителям, что я к вам приду…
И ушла. Меня будто уже и не существовало. Вот к родителям она придет. А я?
Я смотрел вслед своей любимой учительнице. Она мне казалась каким-то далеким-далеким огоньком, мелькнувшим мне с одинокой льдины или острова, на котором я остался, оторванный от всех, всеми осужденный.
Идя домой, я едва-едва передвигал ноги. Они были словно лишние и, казалось, одна другой мешали. Будто сквозь сплошную пелену тумана плелся я к своим, не зная, о чем мне говорить им, и вообще как мне жить дальше. Рядом со мной шагало оно — мое первое испытание. О как нелегко мне было идти…
Тем временем события в нашей деревне развивались все более бурно.
Враги колхозного строя, сделав одно подлое дело, планировали новые провокации и злодеяния. Макар Короткий не сидел сложа руки.
Вечером он позвал к себе домой того же самого верзилу Шикту, своего племянника. Как только тот явился, сразу же начал разговор:
— Смелее надо действовать, Трофимушка. Смелее, говорю…
— А что вы имеете в виду, дядя Макар? — покорно переспросил племянник.
Короткий, однако, не торопился. Он ходил не спеша по хате, поглядывал искоса на Трофима Шикту — изучая его и обдумывая, а сможет ли он до конца быть надежным помощником? И стоит ли ему обо всем говорить? Хитрый и осторожный, решивший вести нелегкую борьбу против колхозов, против передовых людей деревни, сознательно организовавшихся в коллектив, Макар Короткий пока что воздержался раскрывать свои планы молодому помощнику.
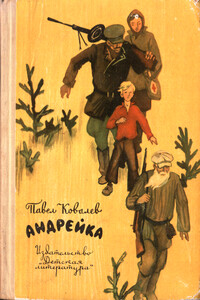
Повесть рассказывает о Великой Отечественной войне, о белорусских партизанах, об участии в партизанской борьбе мальчика Андрейки, о его подвигах. «Мать и сын» — так назвал автор первую часть книги. Вторая — «Отец» — повествует о первых послевоенных годах в Белоруссии, о поисках Андрейкой своего отца, о его учебе и дружбе со сверстниками.
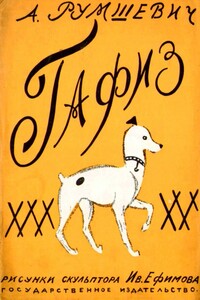
В зоологическом саду был молодой красивый лев, рожденный здесь, в неволе. Его звали Гафизом. Вскормила его и воспитала собачка Майка. Майка дожила до глубокой старости и, тем не менее, щенилась, когда раз, когда два ежегодно. Она была нежной и заботливой матерью, тщательно вылизывала своих детенышей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
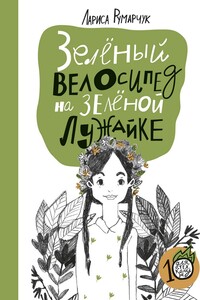
Лариса Румарчук — поэт и прозаик, журналист и автор песен, руководитель литературного клуба и член приемной комиссии Союза писателей. Истории из этой книжки описывают далекое от нас детство военного времени: вначале в эвакуации, в Башкирии, потом в Подмосковье. Они рассказывают о жизни, которая мало знакома нынешним школьникам, и тем особенно интересны. Свободная манера повествования, внимание к детали, доверительная интонация — все делает эту книгу не только уникальным свидетельством времени, но и художественно совершенным произведением.

Повесть «Федоскины каникулы» рассказывает о белорусской деревне, о труде лесовода, о подростках, приобщающихся к работе взрослых.

Рассказы о нелегкой жизни детей в годы Великой Отечественной войны, об их помощи нашим воинам.Содержание:«Однофамильцы»«Вовка с ничейной полосы»«Федька хочет быть летчиком»«Фабричная труба».
