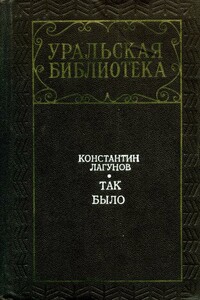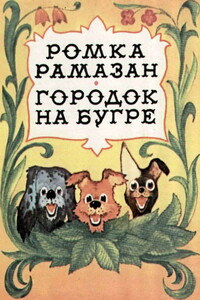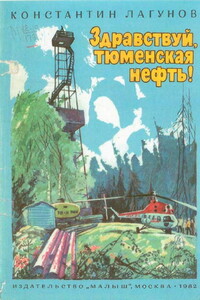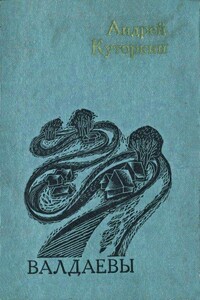— Значит, у вас ни кулаков, ни середняков, только работящие либо ленивые?..
Широченной ладонищей Онуфрий прикрыл вздрагивающую руку Чижикова, легонько жамкнул ее. Пододвинул свой кисет. Медленно свернул самокрутку, старательно наслюнявил край, аккуратно склеил.
— И слепому видно: мужик не под одну гребенку стрижен. Есть одни руки на шесть ртов, а есть шесть рук на один рот. У Маркела Зырянова до прошлого года боле восьмидесяти коров было, а овец, свиней и прочей живности — не сосчитать. Своя маслобойка. До десятка работников в сезон держивал. А Максим Щукин? Чуть разве послабее будет. Но большинство наших мужиков сами себя кормят. Не бедуют, но и не жируют. В твердом достатке живут, а достаток тот вот здесь произрастает. — Кинул руки на стол ладонями вверх. Огромные, задубелые, темно-коричневые ладони иссечены глубокими морщинами, заляпаны бляшками сухих мозолей. Чем- то, непонятно чем, эти ладони показались Чижикову схожими с пашней, и он никак не мог отвести от них взгляда, пока Онуфрий не перевернул руки и не стиснул пальцы в громадные гиреподобные кулачищи. — Тут и богатство, и сила крестьянина. А богатеев и мироедов с трудягами мы сами поравняли, сами сбили их в един гурт. Почитай-ка приказы губпродкомиссара иль Яровского упродкома. Говорим, что деревня, мол, неодинакова, в ей богатеи и бедняки, а грозимся всем сряду, без разбору. Изъять весь хлеб, дополнительное задание на все хозяйства, заложников со всей деревни. — Сокрушенно покачал головой, досадливо акнул, отмахнулся. — Большинство в Челноково, да и вокруг, — крепкие середняки. Стоящие хозяева. С ими дружить надо, а мы… Хорошо, что наш мужик Ленину да Советской власти верит, а то давно б… Но ежели мы и дале так будем… Удумали вот каким-то штурмом в десять ден разверстку доконать по хлебу. Ленин дал срок до марта, а мы наперед батьки скачем. И не хотим растолковать мужику, с чего заспешили. А недруги наши ему уже про тот штурм листовочку подкинули. Как тебе это глянется? Вот над чем голову сломай, а думай. Да живехонько, чтоб успеть наперед жизни забежать, а не под хвост ей засматривать. — Возвысил голос: — Не гоните разверстку! Уберите погонял из деревни. Заместо их — агитаторов сюда. Дайте поостыть мужику, разобраться, что к чему. И не принижайте в ем хозяина. Умейте просить. Вот мой сказ. Теперь— руби! — И нагнул тяжелую большую голову, будто подставляя ее под секиру.
С механической размеренностью Чижиков жевал сметанник, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Ему необходимо было что-то делать, иначе бы он не усидел, не смолчал. Его уже не раз подмывало вскочить, пробежаться по комнате, дать выход подкатившему к горлу волнению, но он хоть и с трудом, а пересиливал, сдерживал себя. Когда же Онуфрий умолк и можно было и нужно было говорить, Чижиков растерял и слова, и мысли. Он понимал: надо обязательно и решительно высказаться, подвести черту этому важному разговору. Но что сказать? Ведь он, Чижиков, член президиума губкома и разделяет ответственность за все его действия и решения… И чтобы как-то продолжить разговор, Чижиков спросил:
— Скажи, Онуфрий Лукич, это правда, что ты разговаривал с Лениным?
— Было.
— О чем?
— Спросил он меня: кто да откудова. Узнал, что из мужиков, из Сибири, шибко обрадовался. Это, грит, хорошо, сибирский мужик за Советскую власть пошел. Он ить самый сытый и крепкий во всей державе. Помещиков не знавал, жил вольготно. Так прямо и высказался. Потом, само собой, поговорили о кулаках, о середняках. Кулака-то Ленин окрестил самым заядлым врагом. Никаких перемириев с им быть не могет, его только давить. Зато, грит, середняк навроде камыша на ветру: то налево, то направо его колыхает. Сегодня за нас, завтра супротив. Половинка к нам лепится, другая от нас отстает. Надо удержать его подле себя. Это чертовски… — так он сказал, — чертовски трудно сделать будет сибирским большевикам… Тут подошел какой-то матрос. Ленин поручался со мной и напоследок просил передать мужикам, что верит в них. Вот и все.
Чижикову вдруг опять вспомнилось напутствие Дзержинского. Тот сказал примерно то же, что и Ленин. Запамятовали об этом, упустили — и вот результат… Нужно решительно и немедленно что-то предпринять. Что? Как? Убедить бы президиум губкома…
— С чего закручинился, Гордей Артемыч?
— Я ведь в самом деле приехал арестовывать тебя.
— За чем же дело? — спокойно, без малейшей заминки откликнулся Онуфрий. — Нищему собраться — подпоясаться.
— Оружие забыл, а без него какой конвоир.
— Я тебе наган свой подарю.
— Прибереги себе. Сгодится.
— К тому катится. Исхитриться бы, запал у врага вынуть, чтоб не рванул под ногами…
— Знаешь как? — От нетерпения поскорее услышать ответ Чижиков даже встал.
— Не по моей голове задачка. Только кумекаю — выход все ж таки есть. Приструнить продработников, самых зловредных судить, отлепить от Советской власти, от коммунистов. Дать мужику оклематься, рассудить своим умом, где лево, где право. Размежевать с кулаком, чтоб тот на виду и наособицу оказался…
— Нужный ты революции человек, товарищ Карасулин, — негромко, но очень проникновенно выговорил Чижиков. — Трудно тебе будет на таком ветровороте. Поберегись.