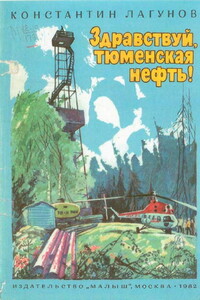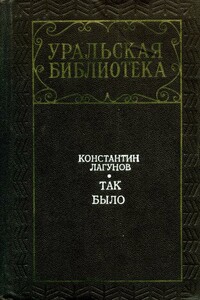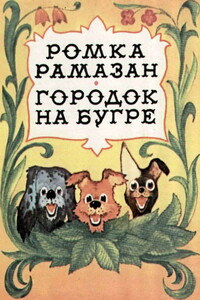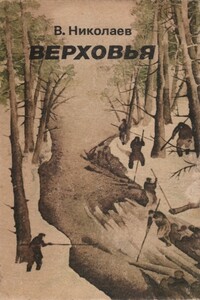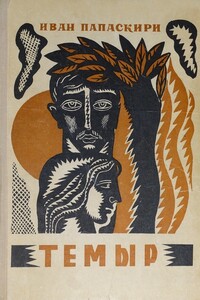Если бы не кремневая вера в бога, в разумность и преднамеренность посылаемого им испытания, не устоять бы Флегонту, закружила бы и его сатанинская карусель. Помог спастись от казни трем пленным мальчишкам-красноармейцам, укрыл на сеновале бежавшего от конвоя белогвардейского офицера. В проповедях и молитвах звал прихожан к терпению, спокойствию, прекращению братоубийственной войны. Его едва не повесили колчаковцы, хотели расстрелять красные. Отстояли мужики, не дали.
И вот теперь, когда, казалось бы, самое дурное — в прошлом, а жизнь начала потихоньку входить в берега, грянула продразверстка. Непонятное, страшное слово-паук. Вцепилось в мужика, и хоть криком кричи, а свой хлеб, потом и кровью взращенный, отдай задарма.
Сын мужика, Флегонт по себе знал, каково терпеть, когда в твоих закромах шарят чужие руки.
Как помирить мужиков с новой властью? Втолковать ей, что нельзя все силой, через колено, вразумить их, что всякая власть — от бога и с ней надобно ладить…
Распалили, разогнали Флегонта думы. Версты две по селу отмахал, опомнился у околицы.
Остановился. Огляделся. Тишина вокруг неземная. Дома зарылись в сугробы по самые окна. Ни собачьего бреху, ни людских голосов. Даже ветра не слышно. «Вразуми, господи, просветли, направь на путь истинный…»
3
Катерина выла в голос — жутко и протяжно. Теребила растрепанные, измочаленные волосы, билась головой о стену, заламывала не по-крестьянски тонкие белые руки. То затихала и только глухо постанывала, раскачиваясь из стороны в сторону, то снова начинала голосить.
Флегонт сидел на скамье, уперев ладони в колени, слегка наклонив крупную тяжелую голову. Молчал. И это молчание действовало на Катерину лучше всяких слов и утешений. Мало-помалу она затихла. Всхлипывала, сотрясаясь всем телом, терла подолом юбки красные, мокрые глаза.
— Радоваться надобно, а ты слезы льешь, бога гневишь… — сильно нажимая на «о», глуховато, но проникновенно заговорил Флегонт.
Всхлипнув еще раз, Катерина затихла. Подняла разлохмаченную голову, разлепила потрескавшиеся губы, уставилась на попа.
— Бог спас душу твою и тело не порушил, ни единый волос не упал. Это ли не диво? Из ада возвернулась. Чего ж еще ждешь от всевышнего?
На разукрашенном сажей и царапинами, отекшем от слез, но и сейчас красивом лице Катерины мелькнул испуг.
— Тут вот гусиный жир и холстина чистая. Смажь и перевяжи. Помочь?
— Спасибочки. Сама управлюсь.
Болезненно морщась и тихонько ойкая, женщина смазала и перебинтовала обмороженные ступни ног, Флегонт искоса наблюдал за ней. Всем бог наделил: красотой, статью, умом, а счастья… Верно бабы поют: «Не родись красивой, а родись счастливой»… Где оно, счастье? В чем? Жар-птицу легче поймать. Всю жизнь тянется к нему человек душой, и руками, и разумом…
— Ты что, батюшка?
Дурацкая привычка бормотать вслух, с собой разговаривать…
— О тебе думаю. Воскресла из мертвых — слава господу. А как дальше? Завтра нагрянут из чека. Чем докажешь, что не ты сожгла продотрядчиков, по наущенью, со злобы ль?
— Вот те крест… — На мучнистом лице еще чернее кажутся остановившиеся глаза.
— Верю. Но поверят ли они? Если спаслась, с чердака спрыгнув, зачем не к соседям побегла? Рядом ведь…
— Со страху… не в себе была.
— Без ветра травинка не колыхнется. Всякому делу первопричина есть, всякой беде — виновник. Настоящие злодеи зело коварны и вероломны. Швырнули тебя в костер, ровно охапку сушняка. Теперь тебя же и оговорят. Чем докажешь правоту?
— Батюшка… — Катерина сползла с лавки, пала на колени, обхватила руками ноги попа. — Не погуби. Ты один свидетель…
— Встань. — Поднял женщину, усадил. — Нам, священникам, у новой власти веры нет. — Тяжело вздохнул, зажал в кулачище пышную бороду и долго молчал. — Облачайся. Отвезу в Северск. Не близок путь, а и ночь-от долга…
Катерина покачала головой, проговорила, будто сама с собой:
— Кончилось мое челноковское житье. Правду баба Дуня насулила: «Не надолго расстаемся, скоро свидимся. С песней прощаемся, с плачем встретимся». По ее и вышло.
— У тебя ведь, кроме бабушки…
— Ни единой душеньки, — договорила Катерина. — Был мужик навроде, а может, только поблазнилось.
— Поживешь пока у бабки.
— Сказывали, в Абалаке она сейчас. Грехи в монастыре замаливает. Да я и одна…
— Нет. Пока не скинешь недуг, одной не след. Вот что, определю-ка я тебя на это время под надзор моего племянника. Человек он образованный, обходительный, на врача учился…
Рослый, широкогрудый жеребец бежал легко, широкой, ровной, размашистой иноходью. Снег то скулил, то взвизгивал под коваными полозьями. Дорогу сильно перемело, жеребец скоро покрылся белыми завитками. Флегонт слегка ослабил вожжи — и лошадь убавила рысь.
Над головой, постоянно меняя цвет и форму, стремительно и неслышно скользили облака. Они мчались, как вспугнутое оленье стадо по зимней тундре, обгоняя и налетая друг на друга. Флегонт провожал облака тоскующим взглядом. Давно позабыл он о Катерине, о том, куда и зачем ее везет: всем своим существом Флегонт устремился сейчас в недоступную высь, откуда недобрый человеческий мир, наверное, кажется покойным и светлым. И как возликовал бы Флегонт, если б вдруг, оторвавшись от земли, жеребец взмыл в небо и врезался в гущу ускользающего облачного клина…