Козленок за два гроша - [8]
Раньше Эфраим никогда так не роптал на небеса. Раньше он покорно соглашался с кознями смерти-разлучницы. А тут не выдержал — взял и возроптал, не стесняясь и не боясь.
— Пошла вон, — сказал он.
— Пошла вон! — повторил он.
Двойре-Дада зашевелилась.
— Собака?
В доме собаки никогда не держали.
— Собака, — машинально ответил Эфраим.
И вдруг его осенило. Он даже съежился от догадки.
Смерть — бешеная собака, наделенная божественней властью. Бог через ее укусы испытывает нашу душу и пашу любовь к нему.
Доколе же ты, собака, будешь пытать меня, гудело у него в груди.
Доколе?
Тут, во дворе, под дикой душистой грушей, в изголовье умирающей Двойре, его второй жены, Эфраим внятно слышал, как обыденно, по-домашнему лает бешеная собака, которую нельзя прогнать со двора.
— Я могу взяться и за твоих детей… и за тебя, — слышалось ему в ее хриплом лае.
За себя Эфраим не боялся. Пусть берется за него, пусть вгрызается в него своими клыками. Но Шахну и Гирша, детей его, пусть не трогает.
— Чур их!
— Чур!
— Укуси меня! Меня-меня-меня!
Двойре о чем-то попросила, он склонился над ней, и рокот в его груди прекратился, лай замолк.
— Эфраим… скажи… только правду… ты меня да-да?
— Да-да.
— Ты меня… не забудешь… да-да?
— Да-да…
— И я тебя, Эфраим… да-да… — застонала и выдохнула, — очень… да-да… очень.
Нашла время объясняться в любви. Главное теперь любить не мужа, а его, чтобы он свою бешеную собаку на Шахну и на Гирша не науськал.
— Эфраим… А ты знаешь, почему я ходила на все похороны?..
— Да-да… то есть нет…
— Отец мой говорил: человек жив до тех пор, пока других хоронит… Неправда… На свете все неправда. Даже правда… да-да… Зачем она нам, эта правда, Эфраим, если надо умирать?
Что за чертовщина, думает Эфраим. Мелькают перед глазами, сменяют друг друга, снятся… жены… дети… и все это с недавних пор… с прошлого лета, когда ему стукнуло восемьдесят.
С тех пор он, Эфраим, как бы живет в разных временах — в настоящем, прошлом и будущем, переносится из одного времени в другое, переходит, как из комнаты в комнату, как из леса — в поле, как с поля на большак; времена путаются, большак врезается в поле, поле подступает к лесу; времена наплывают, сливаются, как облака, несутся вместе, и от их слияния, от их соприкосновения, от их столкновения грохочет гром, сверкают молнии, и на перекрестье между молниями живет человек, и, если ему невмоготу в одном времени, в детстве ли, в юности ли, в зрелом ли возрасте, он может переноситься в старость; старость всегда открыта, как богадельня. Всегда.
Только не по душе Эфраиму ни одно из времен, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, а четвертого времени нет, всевышний его не придумал или прячет его от смертных, чтобы они не осквернили его, не запоганили, не растратили попусту.
Старик Эфраим вздыхает, поворачивается к Шмуле-Сендеру (тот тоже ни для какого времени не годится), ждет, когда водовоз попотчует его новостью, которую пока держит, как голубя за пазухой. Эфраим готов биться об заклад, что это дурная весть. Добрые вести о счастливом белом Берле, торгующем в Нью-Йорке самыми лучшими в мире часами, или об окончании погрома в Гомеле или Меджибоже выпархивают из-за пазухи сами. А дурную весть надо сперва остудить, чтобы она своими горящими искрами сердце не выжгла, глаза не ослепила бы.
Что стряслось?
Царя убили?
Новая война с турками?
Персы полезли?
Японцы?
Чума в уезде?
Это, конечно, дурные вести, плоше и не придумаешь, но не для него, Эфраима, — царя он не заменит, в войско его не возьмут, персов и японцев он не остановит, чумы не боится, нет на свете чумы страшней, чем старость.
Погром?
Но Шмуле-Сендер о погромах рассказывает в первую очередь — раньше, чем о цареубийствах. Погромы могут с юга докатиться и сюда, до Литвы, до Мишкине, их родного местечка. Евреи о погромах должны знать заранее, чтобы к ним загодя приготовиться.
Сколько раз Шмуле-Сендер, нищий Авнер и Эфраим сражались здесь, за печкой синагоги, с захватчиками-персами, наглецами-турками, погромщиками, сколько раз косили врагов израилевых и государевых самым разящим своим оружием — храброй еврейской мыслью.
Может, Эфраим зря переполошился. Может, никаких вестей за пазухой у Шмуле-Сендера нет.
Да нет, водовоз что-то знает.
Знает.
По всему видно.
Камень графа Завадского — это только для отвода глаз. Эфраим сердцем чует. Оно его еще ни разу не подводило. По его ударам, как по буквам, Эфраим прочитывает то, что случается в других местах — в Киеве, в Вильно, в Минске.
Сейчас сердце что-то про детей подсказывает. Только Эфраим не может взять в толк, про кого именно — четверо их, слава богу, у него: Шахна, Гирш, поскребыш Эзра и Церта.
Он прислушивается к своему сердцебиению и, глядя на Шмуле-Сендера, шепчет имя своего среднего сына Гирша.
Что-то с Гиршем стряслось?
Эфраим не сомневается: первым в беду попадет Гирш. У Церты тоже беда. Но с той бедой, которая постигнет Гирша, ее беду не сравнишь.
Уж больно Гирш строптив, уж больно зол на весь белый свет.
Эфраим предлагал ему в каменотесы пойти: вечное ремесло и для здоровья полезное и платят сносно. Куда там!
— Не буду весь век на коленях ползать, как ты, — отрезал Гирш.

Третья книга серии произведений Г. Кановича. Роман посвящен жизни небольшого литовского местечка в конце прошлого века, духовным поискам в условиях бесправного существования. В центре романа — трагический образ местечкового «пророка», заступника униженных и оскорбленных. Произведение отличается метафоричностью повествования, образностью, что придает роману притчевый характер.
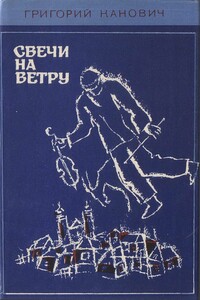
Роман-трилогия «Свечи на ветру» рассказывает о жизни и гибели еврейского местечка в Литве. Он посвящен памяти уничтоженной немцами и их пособниками в годы Второй мировой войны четвертьмиллионной общины литовских евреев, олицетворением которой являются тщательно и любовно выписанные автором персонажи, и в первую очередь, главный герой трилогии — молодой могильщик Даниил, сохранивший в нечеловеческих условиях гетто свою человечность, непреклонную веру в добро и справедливость, в торжество спасительной и всепобеждающей любви над силами зла и ненависти, свирепствующими вокруг и обольщающими своей мнимой несокрушимостью.Несмотря на трагизм роман пронизан оптимизмом и ненавязчиво учит мужеству, которое необходимо каждому на тех судьбоносных поворотах истории, когда грубо попираются все Божьи заповеди.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Местечковый романс» — своеобразный реквием по довоенному еврейскому местечку, по целой планете, вертевшейся на протяжении шести веков до своей гибели вокруг скупого литовского солнца. В основе этой мемуарной повести лежат реальные события и факты из жизни многочисленной семьи автора и его земляков-тружеников. «Местечковый романс» как бы замыкает цикл таких книг Григория Кановича, как «Свечи на ветру», «Слёзы и молитвы дураков», «Парк евреев» и «Очарование сатаны», завершая сагу о литовском еврействе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В честь шестидесятилетия СССР в альманахе опубликованы 15 сценариев фильмов из киностудий 15 братских республик. Большинство произведений раскрывает современные темы, рассказывает о жизни и труде советских людей; во многих так или иначе затрагиваются различные события истории.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
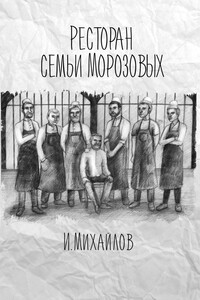
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.