Королевская аллея - [135]
— Но это немыслимо, — запротестовал Томас Манн. — Я не любитель катаний по утренней росе на дрожках. Я понимаю: такая беспутная жизнь убила бы меня, преждевременно выбросила бы с намеченной колеи. И потом, у меня с собой только триста марок.
Шофера, однако, это вполне устраивало; он тронулся и свернул на Королевскую аллею.
— Меня надо оставить в покое. Я происхожу из уважаемой семьи и черпаю силы из привычного порядка.
— Ах, но дело ведь не только в этом. Скорее вам нужен порядок, потому что внутри у вас колышется пламя.
Ситуация в самом деле была немыслимой. Пока Клаус Хойзер задавал себе вопрос, не виновен ли он в какой-то разновидности преступного похищения — но при всем том хотя бы сохранял здравый ум, — Томас Манн, на заднем сидении, словно окаменел, сидел прямой как доска и никак не реагировал на скользящие мимо мертвые магазины.
— Что, плохо себя ведет водяной дух?
— Я бы сказал, да, — донесся ответ; но, может быть, Томас Манн просто чувствовал себя (снова или вообще впервые) персонажем романа.
— Мы ничего никому не скажем.
— Это уж точно.
Шофер, наслаждаясь отсутствием машин, не останавливаясь, пересек железнодорожный переезд.
— А правда, — Клаус наклонился вперед, — что писатели используют для работы своих близких, тех, кого они любят или ненавидят или кто им просто интересен: потрошат, сжигают… отчего их собственный путь всегда отмечен отброшенными оболочками и пеплом?
— Это достаточно известный феномен.
Томас Манн не вполне безупречно вписывался в пространство лимузина, крыша была для него слишком низкой, но что ж поделаешь — коляски, запряженные парой лошадей, теперь не ездят.
— Богам, — заговорил он очень серьезно, — люди приносят жертвы, а под конец жертвой становится сам бог. Но кому интересно, кто или что мучит меня? Я, Клаус, в переменчивом круговращении вещей и людей тоже являюсь горящей свечой, которая жертвует своим телом, чтобы сиял свет; я тоже являюсь — был — тем опьяненным мотыльком, что сгорает в пламени: символом всякого жертвования своей жизнью и телом ради духовного смысла. Я не сам положил такой жребий в свою колыбель, он уже был в мою колыбель положен. После-чувствие, пред-чувствие, Клаус… Да, способность чувствовать — к ней сводится всё. Пусть наши глаза широко раскроются для переменчивого единства мира — пусть будут большими, ясными и знающими.
На загородную прогулку, на обычную ночную проделку это не похоже.
Хойзер молчит, шофер тоже.
— Вы ведь и меня сожгли, не так ли?
— Ты это мне ставишь в вину? Ты со своим здоровым эгоизмом вовремя удрал. Да иначе и быть не могло, никоим образом. Ты вовремя спас мое творчество от реального водоворота страстей. Благодаря этому я затем мог одухотворять, рафинировать и — согласно собственной режиссуре — интерпретировать то, что меня взволновало. Из одной человеческой истории получилась история для многих.
Далекое трепетное одиночество этого человека… такое можно предположить; но ведь, наверное, и ощущение благополучия у него иное, чем у большинства.
Домá тем временем поредели.
Роса стекает по стеклам.
Уже полоса зари?
Они могут друг другу доверять.
— Самое крайнее: оно уже подступает ко мне, Клаус. Смерть, последний полет в пламя — во Все-Единство, как же ей тогда не быть превращением и только? В моем сердце… Дорогие картины, и ты тоже, покоятся там… Каким же радостным будет миг, когда мы, однажды, снова проснемся вместе!
Клаус оглянулся в поисках шерстяного пледа, но ничего такого не обнаружил>{506}. Водитель, проявив удивительную чуткость, снизил скорость настолько, что мог бы теперь следовать за похоронной процессией.
Снова ухабистый железнодорожный переезд. Деревья, которые вылупливаются из ночи. Палисадники. Флигели, обрамляющие пруд. Французские шиферные крыши влажно поблескивают. Деревянные ставни на арочных окнах замка Бенрат закрыты. Пан и его нимфы устроились на цоколях по сторонам от дворцового фасада, они мало-помалу выветриваются, как и четыре песчаниковых льва с горестными мордами, которые, скрестив лапы, охраняют лестницу и подъездную дорогу>{507}. Кровельные плитки отражают первое сияние зари.
— Домой! Такое не для меня, — говорит Томас Манн. — Здесь, в незапамятные времена, вдовы кормили черных лебедей>{508}. — Самое большее пару шагов, чтобы еще раз почувствовать свежесть воздуха. Монах Лютер вдыхал ее, не покидая своей монастырской кельи.
— Вон там сзади остановитесь, — показал водителю Хойзер, теперь и сам все в большей степени обеспокоенный их совместной, можно сказать, безрассудной отвагой. — И подождите нас.
Клаус помог потомку сенаторов выбраться из машины. Столь уж удручающе-нереальным происходящее не назовешь: ведь оно свершилось-таки. Утренний воздух полнится божественными пряными ароматами — как, может быть, в первый день творения; воздух прохладный, но отнюдь не ледяной. Алое зарево ширится над верхушками деревьев. Отовсюду — из парка, с древесных крон «аллеи вееров», с кустов вдоль Змеиного ручья, с подстриженных тисов перед дворцовым фасадом — доносится птичий щебет, всё новые и новые голоса вливаются в этот утренний хор. В кирпичной ограде оранжерейного сада Клаус распознал опутанную вьющимися растениями, почти скрытую грабами дощатую калитку
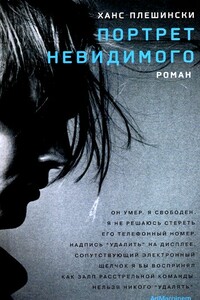
Автобиографический роман «Портрет Невидимого», который одновременно является плачем по умершему другу, рисует жизнь европейской богемы в последней четверти XX века — жизнь, проникнутую духом красоты и умением наслаждаться мгновением. В свою всеобъемлющую панораму культурного авангарда 1970–1990-х годов автор включил остроумные зарисовки всех знаменитых современников, с которыми ему довелось встречаться, — несравненное удовольствие для тех, кто знаком с описываемой средой. Перед читателем разворачивается уникальный портрет эпохи, культивировавшей умение превращать жизнь в непрерывный праздник, но вместе с тем отличавшейся трагическим предощущением заката европейской культуры.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

«Женщина с прошлым» и муж, внешне готовый ВСЕ ПРОСТИТЬ, но в реальности МЕДЛЕННО СХОДЯЩИЙ С УМА от ревности…Габриэле д'Аннунцио делал из этого мелодрамы.Уильям Фолкнер — ШЕДЕВРЫ трагедии.А под острым, насмешливым пером Джулиана Барнса это превращается в злой и озорной ЧЕРНЫЙ ЮМОР!Ревность устарела?Ревность отдает патологией?Такова НОВАЯ МОРАЛЬ!Или — НЕТ?..

Шестеро друзей — сотрудники колл-центра крупной компании.Обычные парни и девушки современной Индии — страны, где традиции прошлого самым причудливым образом смешиваются с реалиями XXI века.Обычное ночное дежурство — унылое, нескончаемое.Но в эту ночь произойдет что-то невероятное…Раздастся звонок, который раз и навсегда изменит судьбы всех шестерых героев и превратит их скучную жизнь в необыкновенное приключение.Кто же позвонит?И что он скажет?..

Перед вами настоящая человеческая драма, драма потери иллюзий, убеждений, казалось, столь ясных жизненных целей. Книга написана в жанре внутреннего репортажа, основанного на реальных событиях, повествование о том, как реальный персонаж, профессиональный журналист, вместе с семьей пытался эмигрировать из России, и что из этого получилось…
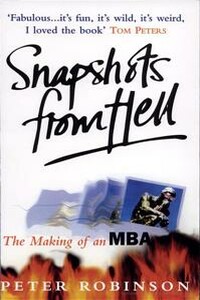
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.