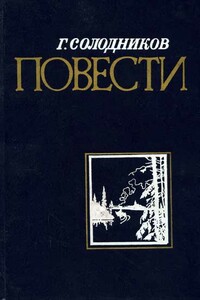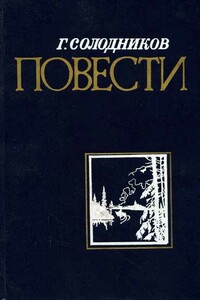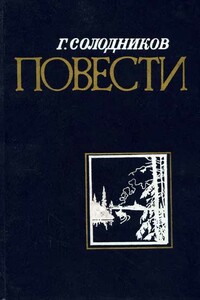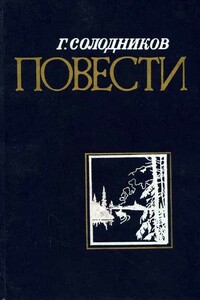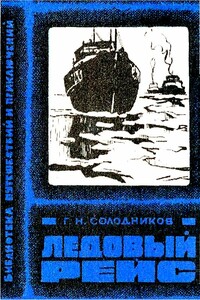— А куда помидоры деваются? Вон нынче какой урожай был.
Класс заинтересованно загудел.
Паганель приподнял очки, посмотрел на школьницу изумленно, словно впервые увидел ее, и простодушно пожал плечами.
— Простите, но это уж очень странный вопрос. Мое, вернее, наше с вами дело выращивать их. А остальным занимается наш уважаемый завхоз. Я как-то никогда даже не задумывался над этим. Да и вам, я считаю, ни к чему…
Не успел Пашка решить, в какую все-таки сторону ему идти, как из-за угла вывернулся Левка.
— А я к вам домой. Узнать: приехал — нет… — Увидев вышагивающего в конце проулка Паганеля, спросил уверенно: — Чего опять пел этот старый зануда?
— Да так. В школе остаться уговаривал.
— А-а, знакомая пластинка. Маханя — только об этом. Боятся, что через два года не наберется десятый класс, — с привычной беспечностью показал свою осведомленность Левка. — А ну их всех! Пошли к Семке.
— Ну как он? Скис? — от чего-то замирая, задал вопрос Пашка.
— Чин чинарем. Да сам увидишь.
Семку они застали дома. Маленькой литовкой он подкашивал траву возле корявой черемухи в огороде.
Такие косы-недомерки имелись, пожалуй, в каждой семье, где рос хотя бы один мальчишка и где держали скот. Надломится старая литовка возле пятки, ее подрежут, приклепают пятку заново, приладят косовище по росту — и, пожалуйста, еще одного работничка можно по мелочам включить в дело. Пашка так с десяти лет начал и малость отдохнул только в этом году. Дома — все мать сама. В лесу отец урывками тюкал по укромным кулижкам. Будет, говорят, несколько возов-тележников, авось хватит на зиму.
Семка немножко растерялся, увидев вместе обоих дружков, в глазах у него промелькнула виноватость, как тогда — на станции и в городе, и Пашке от этого опять стало не по себе. Левка, похоже, ничего не заметил, хитро подмигнул обоим, снял свою кепчонку и выкатил из-под надломленного козырька несколько папирос-гвоздиков.
— Налетай — подешевело…
Семка сморщился, мотнул головой. Пашка тоже отказался. Левка презрительно посмотрел на них и затянул:
— Покурим-потянем, учителей помянем.
— Папиросы «Ракета» — не для всякого шкета, — подхватил скоморошливый тон Пашка, чуть переиначив присказку, услышанную в городе.
Левке она понравилась, он довольно хохотнул, развалился на свежей кошенине и важно закурил, накосо выдувая дым.
— Знаешь, Паш, я даже доволен, что вернулся домой, — придвинулся Семка. — А мамка, та вообще рада-радехонька. Все вместе, говорит, заживем потихоньку. Брат, дескать, после поможет на заводе… Ну, отнесли документы в ремесленное. А там — пожалуйста, приняли сразу.
Семка улыбнулся, вздохнул. Улыбка у него получилась чуть печальная, тихое смирение и еще что-то невысказанное проскользнули в ней. Пашка понимал Семку, чувствовал его состояние, хотя на словах тоже не смог бы ничего объяснить толком.
— А я, ребя, твердо решил в военное училище, — вмешался Левка. — Не верите? Точно. И маханя согласна, все уж расписала: подтянуться по математике, всерьез заняться физкультурой — и я там. А что, самое верное дело — офицер. Э-эх, быстрей бы три годика пролетели! — Левка, как застоявшийся жеребенок, подпрыгнул от нетерпения и избытка сил, сделал стойку на руках и прошелся по траве, смешно болтая длинными ногами.
Пашка с Левкой переглянулись и ничего не сказали Левке, думая каждый о своем.
К концу дня Левка затащил их в школу на окраине поселка. Там заканчивался ремонт. На заднем дворе, густо заросшем травой, стояли ряды парт. Одинаковых, блестящих свежей краской. Только крышки их, как лица людей, были непохожи друг на друга. Каждый год, каждый класс оставлял на партах свои следы — неизлечимые шрамы и рубцы. Как ни заливали их краской, как ни зашпаклевывали, все равно там и тут проглядывали имена, даты, сердца, пронзенные стрелами, и какие-то непонятные иероглифы, процарапанные, глубоко прорезанные ножом. Кто оставил их, когда — поди теперь разберись.
Пашка пошел меж рядов, поглаживая просохшие столешницы, прощупывая пальцами оставленные потомкам варварские письмена. Ему хотелось найти свою парту, присесть на нее в последний раз, откинуть крышку и разыскать на ее кромке чуть заметные, одному ему понятные буквы. Но Левка торопил, звал за собой в школу — у него опять было что-то свое на уме.
На первом этаже в дальних, угловых классах еще добеливали, а второй уже весь сверкал чистотой. Створки окон были широко распахнуты, двери в классы раскрыты настежь, посреди коридора выстлана дорожка из кусков фанеры и картона. Гулко было на этаже, пусто. Тихо и вокруг, только в углу двора на дикой конопле суматошливо пировали воробьи. Несколько блеклых листьев, уже стронутых временем с родных мест, прилипли к одному из подоконников, и одинокая серебристая паутинка чуть заметно трепетала в углу окна.
Ребята примолкли. Даже Левка остановился, глядя через дорогу, через близкий ельник в ложке на уходящие вдаль желтеющие под низким солнцем поля. Пашка не помнил, приходилось ли ему бывать в такой вот голой и сквозной предсентябрьской школе, но сегодняшнего смешанного чувства легкой грусти, светлой тоски и смутного ожидания никогда не испытывал — уж это он знал точно.