Колесо Фортуны - [166]
Лукьяниха решалась и не решалась, бегала за угол поглядеть, не идут ли уже, и добегалась — увидела, как к углу — к ней! — быстро шагают тот человек и верзила милиционер…
Сердце оглушительно стучало в ушах, затылок разламывало, а левый бок снова жег геенский огонь. Кое-как отдышавшись, она выглянула через забор — все окна музея были освещены. Поймали растяпу… Значит, вот-вот придут и за ней, а коли спрячется — сыщут. Ждать автобуса уже некогда, надо управиться, пока не доискались и не заарестовали. Ночью-то, по холодку, можно и поспеть, а там уж будь как будет. Отдать ему и пасть в ноги — вот, мол, все цело, окромя колечка, не вышло с колечком… Может, и отступится, отпустит душу на покаяние?
Ах, кабы знать да не связываться!
Дура дурой была, выросла в послушании, отказать не посмела, вот и связала себя на всю жизнь, а бог вовремя смерти не дал. Не иначе, как за грехи ее тяжкие…
Она шла, не глядя по сторонам, смотрела на дорогу, но видела не ее, а ту холодную, промозглую ночь, когда барин уезжал.
В заполошной спешке набили два чемодана, дорожный мешок, барин покидал в кожаный саквояж все деньги, что были, и какое нашлось золотишко. Перед дорогой, как водится, присели на минутку. И только сидя уже в коляске, барин спохватился:
— А тайник? Забыли!
— Да ну! Что там, ценности какие?! — сказал прыщавый сынок.
— Много ты понимаешь! Это дороже всяких ценностей…
— Ну хорошо, я схожу.
— Нельзя — пути не будет!..
— Суеверие, — фыркнул сынок. — Как вам не стыдно, папа!
— Ну еще бы — мы образованные, в гимназии не доучились, — ядовито сказал барин. — Таисья, подойди ближе! В стене за портретом отца есть тайничок. В случае чего — вынь все и береги пуще глазу! Забожись!
— Сделаю, вот истинный крест, сделаю! — не успев подумать, Таисья перекрестилась.
— Смотри, — пригрозил барин, — вернусь, я с тебя спрошу. А не сбережешь, я тебя и на том свете найду!..
Видно, не заладились бариновы пути-дороги, не вернулся. Кабы сам-то вернулся — ничего, он добер был, шумлив, да отходчив. А то вот теперь Старый барин за своим добром явился… Ох, поспеть бы только, а там уж…
Давно рассвело, солнце высоко поднялось над вершинами деревьев. Лукьяниха оглянулась и не узнала дороги.
Пора быть Семигорскому сплошному бору, а тут по сторонам только кусты да жиденькие перелески, впереди и вовсе чистое поле. Это не удивило и не встревожило помраченный страхом разум Лукьянихи. Эка беда, значит, вырубили. Прежде, когда доводилось ходить пешком, свежие вырубки бросались в глаза, из окна автобуса не больно приметны. И что ей до того? Ей бы поскорее дойти…
И тут Лукьяниха почувствовала, что идти больше не может. Ноги стали непослушными, геенский огонь в левом боку не утихал, а все пуще разгорался, мозжило под лопаткой, и даже рука стала как не своя. Лукьяниха поняла, что одним махом не дойти, надо передохнуть. Она свернула в сторонку и за ближними кустами прилегла на крохотном пригорочке. Полежав некоторое время, она вспомнила, что уже наступил день, а она еще и лба не перекрестила. Лежа молиться не годилось, она попыталась встать, но не смогла. Слова молитвы путались.
И, быть может, потому, что она долго шла, вместо молитвы ей вспомнилось, как в далекой молодости слушала у Семигорского монастыря слепых калик перехожих. Калики пели разное, но жалостливее всего — "Лазаря", и у нее всегда к горлу подступал клубок:
Она, нынешняя Лукьяниха, так была не похожа на тогдашнюю Таиску, что вспоминалась та, как что-то совсем стороннее, чужое, давно умершее. И что проку вспоминать? Вчерашним куском сыт не будешь… А вот явился Старый барин и снова связал воедино все: что было да умерло и что осталось и еще продолжает жить… Ходили калики перехожие от обители к обители, от храма к храму, питались подаянием христа ради. Вокруг шумела, сверкала молодая, веселая жизнь, а они шли мимо, держась друг за дружку, не видя ее, и только жалобно печаловались, что идут мимо ее царства. Она, Таиска, мимолетно сокрушалась сердцем и раздавала копеечки.
А сама-то лучше ли? Не успела оглянуться, как и прошла мимо жизни или жизнь пробежала мимо нее… Весь век всякие разные люди помыкали ею, то и дело корили "дурой", толкали то туда, то сюда, убеждали, что от этого станет лучше ей самой и другим тоже… А было ли лучше-то? Калики перехожие друг за дружку держались, а ей, бобылке-бездомовнице, за кого ухватиться?.. Да что уж теперь, только бы дойти…
Лукьяниха снова попыталась подняться, но в левом боку отозвалась режущая боль, она враз обессилела и поняла, что ей уже больше не встать. Видно, пришел ее час и подохнет она тут, как собака бездомная… Того хуже — собака бездомная хоть под чужим забором околевает, а она — под кустом, как былка придорожная…
Всю жизнь ее то солнце жгло, то дожди хлестали и топтал, не глядя, кто хотел… За что же это? Почто я жила-то, господи?
С натужным звенящим гудом бледную от зноя синеву медленно пронзала серебряная игла, а за ней по всему небосводу курчавился, размывался белесый хвост. Лукьяниха закрыла глаза. Она подумала, что вот умрет здесь, найдут ее люди и закопают, в чем есть, а припасенное дома "смертное" так и останется. И десятка на похороны, завернутая в особую тряпочку, тоже останется… Но подумалось о том отчужденно и безразлично. И тут же она вспомнила об узел. ке… Господи, как же с ним-то? Хоть бы навернулся кто, передать кому… А то ведь не отступится, окаянный, не даст ей покою и на том свете…
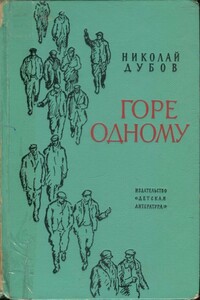
До сих пор «Сирота» и «Жесткая проба» издавались отдельно как самостоятельные повести и печатались в сокращенном, так называемом «журнальном» варианте. Между тем обе эти повести были задуманы и написаны как единое целое — роман о юных годах Алексея Горбачева, о его друзьях и недругах. Теперь этот роман издается полностью под общим первоначальным названием «Горе одному».
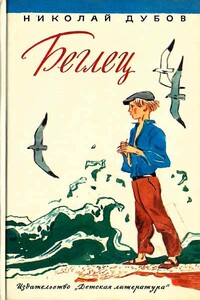
Повесть о подростке из приморского поселка, о трагедии его семьи, где отец, слабый, безвольный человек, горький пьяница, теряет зрение и становится инвалидом. Знакомство и дружба с ярким благородным взрослым человеком обогащает мальчика духовно, он потянулся к знаниям, к культуре, по чувство долга, родившееся в его душе, не позволило ему покинуть семью, оставить без опоры беспомощного отца.

Повести Николая Ивановича Дубова населяют многие люди — добрые и злые, умные и глупые, веселые и хмурые, любящие свое дело и бездельники, люди, проявляющие сердечную заботу о других и думающие только о себе и своем благополучии. Они все изображены с большим мастерством и яркостью. И все же автор больше всего любит писать о людях активных, не позволяющих себе спокойно пройти мимо зла. Мужественные в жизни, верные в дружбе, принципиальные, непримиримые в борьбе с несправедливостью, с бесхозяйственным отношением к природе — таковы главные персонажи этих повестей.Кроме публикуемых в этой книге «Мальчика у моря», «Неба с овчинку» и «Огней на реке», Николай Дубов написал для детей увлекательные повести: «На краю земли», «Сирота», «Жесткая проба».

Повести Николая Ивановича Дубова населяют многие люди - добрые и злые, умные и глупые, веселые и хмурые, любящие свое дело и бездельники, люди, проявляющие сердечную заботу о других и думающие только о себе и своем благополучии. Они все изображены с большим мастерством и яркостью. И все же автор больше всего любит писать о людях активных, не позволяющих себе спокойно пройти мимо зла. Мужественные в жизни, верные в дружбе, принципиальные, непримиримые в борьбе с несправедливостью, с бесхозяйственным отношением к природе - таковы главные персонажи этих повестей.
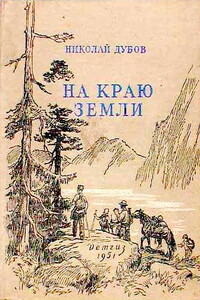
Кто из вас не мечтает о великих открытиях, которые могли бы удивить мир? О них мечтали и герои повести "На краю земли" - четверо друзей из далекого алтайского села.

Во второй том Собрания сочинений вошел роман в 2-х книгах «Горе одному». Первая книга романа «Сирота» о трудном детстве паренька Алексея Горбачева, который потерял в Великую Отечественную войну родителей и оказался в Детском доме. Вторая книга «Жесткая проба» рассказывает о рабочей судьбе героя на большом заводе, где Алексею Горбачеву пришлось не только выдержать экзамен на мастерство, но и пройти испытание на стойкость жизненных позиций.
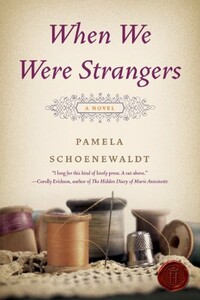
«Если ты покинешь родной дом, умрешь среди чужаков», — предупреждала мать Ирму Витале. Но после смерти матери всё труднее оставаться в родном доме: в нищей деревне бесприданнице невозможно выйти замуж и невозможно содержать себя собственным трудом. Ирма набирается духа и одна отправляется в далекое странствие — перебирается в Америку, чтобы жить в большом городе и шить нарядные платья для изящных дам. Знакомясь с чужой землей и новыми людьми, переживая невзгоды и достигая успеха, Ирма обнаруживает, что может дать миру больше, чем лишь свой талант обращаться с иголкой и ниткой. Вдохновляющая история о силе и решимости молодой итальянки, которая путешествует по миру в 1880-х годах, — дебютный роман писательницы.
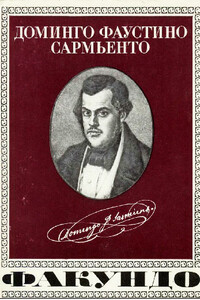
Жизнеописание Хуана Факундо Кироги — произведение смешанного жанра, все сошлось в нем — политика, философия, этнография, история, культурология и художественное начало, но не рядоположенное, а сплавленное в такое произведение, которое, по формальным признакам не являясь художественным творчеством, является таковым по сути, потому что оно дает нам то, чего мы ждем от искусства и что доступно только искусству,— образную полноту мира, образ действительности, который соединяет в это высшее единство все аспекты и планы книги, подобно тому как сплавляет реальная жизнь в единство все стороны бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
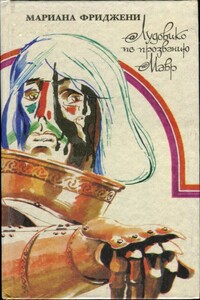
Действие исторического романа итальянской писательницы разворачивается во второй половине XV века. В центре книги образ герцога Миланского, одного из последних правителей выдающейся династии Сфорца. Рассказывая историю стремительного восхождения и столь же стремительного падения герцога Лудовико, писательница придерживается строгой историчности в изложении событий и в то же время облекает свое повествование в занимательно-беллетристическую форму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.