Книга сияния - [2]
Далее была зачитана ктуба[9] — обязательства жениха в обмен на девственность невесты. Жених и невеста отпили от второй чаши вина. Было произнесено еще несколько благословений, и на пол поставили бокал.
— Мазел тов! — дружно воскликнули все мужчины.
Жених разбил бокал в память о разрушении Храма и обо всех тех, кто был изгнан.[10] Затем пару, согласно традиции, оставили наедине. Теперь это было дозволено, ибо отныне они официально стали мужем и женой.
— Благодарю тебя, Зеев Вернер, за то, что ты взял меня в жены, — сказала невеста — не только потому, что была круглой сиротой, но и потому, что само ее происхождение являло собой предмет печали и брачного милосердия. На самом же деле все члены еврейской общины Праги исполнили в этот последний день последнего месяца года одна тысяча шестисотого предназначенный им долг, ибо ответственность за незамужнюю женщину ложилась на всех. Рабби Ливо, как было принято, организовал брак. Перл, жена раввина, помогла невесте-сироте подготовить свою одежду. Жених, сам вдовец, повиновался долгу, ибо по-прежнему любил свою первую жену, с которой прожил пятнадцать лет и которая теперь лежала на Юденштадтском кладбище.
Зеева убедили вступить в брак с этой новой женой, которой он никогда раньше не видел. Мало того, он не получил никакого приданого, не считая ее таланта обращения с иголкой и ниткой. Невеста по имени Рохель вместе со своей бабушкой, умершей всего за три месяца до свадьбы, шила превосходные одежды не только для мэра Майзеля, единственного еврея, появлявшегося при дворе, но и для знатных аристократов нееврейского происхождения, что жили во дворцах на холме под Градчанским замком. Поразительная искусница в своем ремесле, Рохель уже успела расшить прекрасный камзол не для кого-нибудь, а для самого императора Рудольфа II.
Да, конечно, как еврейка и как женщина, Рохель не могла принадлежать к портняжной гильдии, а Зеев, как еврей, не мог состоять в гильдии сапожников. Однако вместе, используя таких христианских посредников, как мастер Гальяно, портной, и старьевщик Карел, они смогли бы платить за аренду одной комнаты, которая стала бы им сразу и домом, и мастерской. Кроме того, решил Зеев, они смогли бы позволить себе новую постель из свежей соломы, пару несушек и петуха, а их кладовка всегда была бы полна капусты, репы и лука. Зеев также позволил себе задуматься о кормлении и одевании детей, ибо, несмотря на его великую любовь к первой жене, их брак оказался бесплодным.
На свадебном торжестве Зеева с его новой женой посадили на соседние стулья. Точно король с королевой на своих тронах, они держали головы повыше, словно бы принимая парад, пока перед ними в должном порядке проходила процессия мужчин и женщин еврейской общины Юденштадта. Голова Рохели кружилась от гордости. От выпитого во время церемонии вина девушка слегка захмелела, и теперь в носу у нее щекотало, а помещение наполнялось теплом и кружением красок. Почти замирая от счастья, Рохель понимала, что все это — начало ее новой жизни. Но вот величественное торжество закончилось, Зеев провел ее в свою комнату-мастерскую напротив кладбища, которой предстояло стать их домом. И сердце Рохели, которое только что раскрылось подобно цветку, обласканному солнцем, вдруг сжалось, словно от дыхания мороза. Очаг, сырой и черный от сажи, был увешан покачивающимися заготовками для деревянных башмаков, где каждая пара подходила под размер соответствующей персоны. Первоначально изготовленные из древесины, эти пары тем не менее не были радостными и блестящими подобно листве, а скорее напоминали куски плоти, вырванные из тела дерева. Рохели они казались останками побоища, строем бесформенных кукол. «Во что обратятся эти заготовки, когда стемнеет», — со страхом подумала она.
— Когда кто-то умирает, я убираю заготовку из этого ряда, — объяснил Зеев, подходя к буфету и доставая оттуда коробочку с кремнем, чтобы зажечь свечу на оловянной тарелке. В комнате было холодно — даже холоднее, чем снаружи.
— Пожалуй, камин сегодня лучше не разжигать, — заявил он. — Давай сразу в постель. Незачем попусту тратить добрую растопку.
В комнате был всего один стол и один стул. Теперь, когда Зеев приподнял свечу, Рохель разглядела прикрепленные к стропилам шкуры животных. Там были полоски и цельные шкуры, выкрашенные кроваво-красным, чернильно-черным и бурым. Из-за них в помещении висел запах бойни, а поверх него — какой-то тошнотворно-сладковатый аромат, вроде душистого воска. «Я вошла в лес мертвецов», — с содроганием заключила Рохель.
— Плотник уже делает для тебя стул, жена. Два стула, подумать только. Нам очень повезло, у нас есть крыша над головой… — Зеев поднес свечу к кровати. — Блаженны имеющие одежду на теле и пищу в желудке.
Кровать, приподнятая над полом для защиты от сквозняков и паразитов, занавешенная пожелтевшей от времени тканью, напомнила Рохели гроб.
— Подойди сюда, жена.
«Придется сделать новые занавески, — решила Рохель, — а потом заменить промасленную бумагу в единственном окне настоящим стеклом. А еще — дочиста отмыть камни очага, отскрести весь пепел». Самой дешевой тканью для полога стало бы полотно, зато шерсть куда больше годилась для зимы. Конечно, Рохель сумела бы смешать одно с другим. Из всех тканей самой ее любимой был шелк — та его разновидность с рельефным узором, иначе шелковый бархат. Не меньше Рохель любила шелк мягкий и податливый, блестящий и теплый, иначе — шелковую тафту с ребристым полотняным переплетением. А еще шелковый дамаст, поступавший из Дамаска, иначе — шелковую парчу…
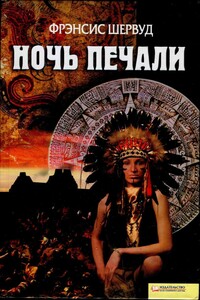
Малинцин с детства считала себя ацтекской принцессой, но вскоре после смерти отца ей пришлось узнать, что такое рабство. Едва не погибнув от голода, девушка смирилась со своей участью и стала ауианиме — женщиной, торгующей своим телом. Но когда у берегов Восточного моря бросили якоря испанские корабли, у прекрасной Малинцин появился шанс. Став переводчицей, помощницей и возлюбленной Эрнана Кортеса, она привела его к победе. Так кто же такая Малинцин? Предательница? Страстно любящая женщина или песчинка в жерновах истории?
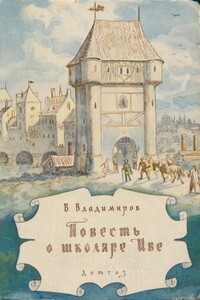
В книге «Повесть о школяре Иве» вы прочтете много интересного и любопытного о жизни средневековой Франции Герой повести — молодой француз Ив, в силу неожиданных обстоятельств путешествует по всей стране: то он попадает в шумный Париж, и вы вместе с ним знакомитесь со школярами и ремесленниками, торговцами, странствующими жонглерами и монахами, то попадаете на поединок двух рыцарей. После этого вы увидите героя смелым и стойким участником крестьянского движения. Увидите жизнь простого народа и картину жестокого побоища междоусобной рыцарской войны.Написал эту книгу Владимир Николаевич Владимиров, известный юным читателям по роману «Последний консул», изданному Детгизом в 1957 году.

Роман основан на подлинных сведениях Мухаммада ат-Табари и Ахмада ал-Балазури – крупнейших арабских историков Средневековья, а также персидского летописца Мухаммада Наршахи.

Роман является третьей, завершающей частью трилогии о трудном пути полковника Генерального штаба царской армии Алексея Соколова и других представителей прогрессивной части офицерства в Красную Армию, на службу революционному народу. Сюжетную канву романа составляет антидинастический заговор буржуазии, рвущейся к политической власти, в свою очередь, сметенной с исторической арены волной революции. Вторую сюжетную линию составляют интриги У. Черчилля и других империалистических политиков против России, и особенно против Советской России, соперничество и борьба разведок воюющих держав.

Британские критики называли опубликованную в 2008 году «Дафну» самым ярким неоготическим романом со времен «Тринадцатой сказки». И если Диана Сеттерфилд лишь ассоциативно отсылала читателя к классике английской литературы XIX–XX веков, к произведениям сестер Бронте и Дафны Дюморье, то Жюстин Пикарди делает их своими главными героями, со всеми их навязчивыми идеями и страстями. Здесь Дафна Дюморье, покупая сомнительного происхождения рукописи у маниакального коллекционера, пишет биографию Бренуэлла Бронте — презренного и опозоренного брата прославленных Шарлотты и Эмили, а молодая выпускница Кембриджа, наша современница, собирая материал для диссертации по Дафне, начинает чувствовать себя героиней знаменитой «Ребекки».

«Впервые я познакомился с Терри Пэттеном в связи с делом Паттерсона-Пратта о подлоге, и в то время, когда я был наиболее склонен отказаться от такого удовольствия.Наша фирма редко занималась уголовными делами, но члены семьи Паттерсон были давними клиентами, и когда пришла беда, они, разумеется, обратились к нам. При других обстоятельствах такое важное дело поручили бы кому-нибудь постарше, однако так случилось, что именно я составил завещание для Паттерсона-старшего в вечер накануне его самоубийства, поэтому на меня и была переложена основная тяжесть работы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.