Книга о смерти. Том I - [5]
Вскоре все родные направились к нам, в Веселую Гору. Туда привезли дядю. Я видел его закрытый длинный розовый гроб, поставленный на двух голубых табуретах внутри нашей часовни, где происходило отпевание. Пол в часовне был песчаный; на задней стене был нарисован Господь Вседержитель, молодой, светлокудрый, в короне, с державой и скипетром, среди нежно-голубого неба. Все были одеты в черном, стояли на коленях, горько плакали и били поклоны. Священник поминал «убиенного Родиона»… Я смотрел сквозь дым ладана на гроб, и мое воображение отказывалось постигнуть, что в нем заключалось: дух? мертвец? дядя? Может быть, ничего, кроме памяти о дяде? Может быть – нечто нестерпимое для глаза?.. Тайна делалась для меня все более и более глубокою… Я представлял себе мертвеца не человеком, а спящим духом, перед которым уже раскрылась будущая жизнь. Мне думалось, что даже те, которым случается смотреть на мертвеца, не могут вполне его видеть; я воображал себе его чем-то вроде продолговатого светящегося облака, у которого нет видимых границ. Так я фантазировал.
Но первых мертвецов я увидел (хотя бы издали) лишь тогда, когда уже меня взяли из деревни и привезли в Екатеринослав, в мою семью. Мне тогда шел девятый год. Наша квартира находилась в нижнем этаже, на перекрестке двух улиц, из которых одна поднималась на кладбищенскую гору. На юге несут и перевозят покойников в открытых гробах. Часто случалось, что на звуки церковного пения домашние сбегались к окнам. Тогда я видел, как среди толпы колебался длинный плоский ящик, суженный книзу. В верхней части этого ящика лежала непривычно бледная, желто-серая и какая-то скверная голова… Я боялся присматриваться… Мне казалось, что мимо меня проходит самая страшная тайна мира. Другие, по-видимому, не испытывали моего страха: братья всползали на окна и спокойно рассматривали шествие; отец стоял позади, заложив руки за спину; прислуга с любопытством вытягивала головы, и только все набожно крестились, когда показывался покойник. А мне представлялся дом, откуда вынесли этого, так недавно жившего человека. Я воображал себе, что чувствовали его близкие. Неужели этот ужас заглянет когда-нибудь и к нам?..
Те же процессии попадались мне и на улице. Сердце сжималось; я не знал, куда деть глаза. Те же безотрадные напевы, но более явственные, не заглушённые окнами, терзали мой слух; толпа мерно проходила мимо; я слышал рядом с собою топот ее ног и углом своего глаза видел хоругви, перевязанные полотенцами. Я издали рассчитывал, как бы пониже опустить голову, чтобы не оглянуться на покойника, и каждый раз невольно оборачивался в его сторону. И каждый раз я видел сухое и острое лицо, как бы выставленное на суд распростертых над ним небес…
Живешь, бывало, так просто, удобно, будто иначе и быть не может, будто все вокруг понятно, интересно, разумно. И вдруг… звон о покойнике!.. значит: кто-то сейчас умер!.. Или: в каком-нибудь низеньком домике, днем – три больших церковных свечи в угловой комнате, значит: там лежит мертвый! И все окружающее становилось для меня странным, случайным, горестным. Я переносился мыслью в неизвестную мне семью, где переживалось это несчастье, и никакие развлечения в нашей собственной семье не могли разогнать того холодного спазма, который охватывал мое сердце. Это настроение длилось до трех дней, когда я знал, что покойника наконец унесли и что все идет по-прежнему.
Однажды у нас кто-то сказал: «Василевская умерла». Это была старая дама, которую я видел всего два раза. И вот я несколько суток подряд страдал из-за этой Василевской, сосредоточенный над нею одной в целом мире! Я постоянно думал о ее смерти, как за нее, так и за всех живых… Я углублялся в эту Василевскую до бесконечности!.. Я чуть не разболелся. Бодрость возвратилась ко мне лишь тогда, когда я узнал, что ее похоронили. «Теперь, – думалось мне, – с нею все кончилось, как следует, и страдать о ней больше не нужно». Это было тогда, когда мы уже не жили на углу той улицы, которая поднималась к кладбищу, а наняли квартиру на бульваре, в отдельном доме, с девятью окнами и мезонином, с зелеными ставнями в виде жалюзи и с желтою крышею. На мезонине был балкончик. Из-за дома виднелись деревья сада.
II
Сестра моя Маша была двумя годами старше меня. Меня привезли в мою семью на девятом году из деревни. Из полного одиночества я попал в общество трех братьев и сестры. Все они мне казались любопытными, чужими и в то же время как-то законно близкими. Но я наблюдал их немножко как посторонний. Сестра Маша имела отдельное помещение. Чувствовалось, что она совсем особенная. У нее были калмыцкие глазки, черные, как смоль, волосы, и необыкновенно белая, нежная кожа. Обособленная от других, она вырастала в невольной мечтательности. Она любила мифологию, и когда ей случалось присоединяться к нашим играм, она предлагала «играть в богов». Накидывая на голову свой теплый стеганный халатик, она бегала по комнатам, говоря, что она «несется в облаке»… Надо было выжидать, к кому из нас она спустится. И вот когда она спускалась ко мне и на каком-нибудь кресле окутывала меня всего с головою своим халатиком, я чувствовал в потемках, в ее близости, невольное биение сердца.
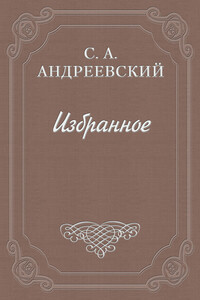
«Для вас, господа присяжные заседатели, как для судей совести, дело Наумова очень мудреное, потому что подсудимый не имеет в своей натуре ни злобы, ни страсти, ни корысти, словом, ни одного из тех качеств, которые необходимы в каждом убийце. Наумов – человек смирный и добродушный. Смерть старухи Чарнецкой вовсе не была ему нужна. После убийства Наумов оставался в течение двенадцати часов полным хозяином квартиры, но он не воспользовался ни одной ниткой из имущества своей барыни-миллионерки. И когда затем пришла полиция, то Наумов, как верный страж убитой им госпожи, отдал две связки ключей, не тронутых им до этой минуты.

«10 апреля 1892 г. во дворе дома № 8 по Владимирской улице Петербурга студент А. П. Богачев нанес пять ран своей жене Л. А. Богачевой, оказавшихся легкими и не принесшими расстройства здоровью.Задержанный на месте совершения преступления, Богачев признал себя виновным в совершении покушения на убийство жены, однако затем в процессе судебного разбирательства дела отказался от этого своего показания и признал себя виновным в нанесении ранений жене в состоянии запальчивости и чрезмерной раздражительности. Защищавший Богачева С.
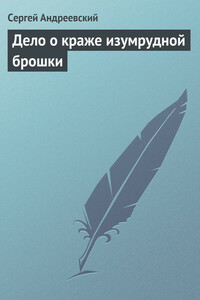
«28 ноября 1892 г. Мария Елагина не нашла оставленной ею на туалетном столике изумрудной брошки. О пропаже брошки было немедленно заявлено в полицию. Вскоре владелец магазина ювелирных изделий Лутугин сообщил, что сходная по приметам брошка куплена им у неизвестной гражданки, назвавшейся Ольгой Перфильевой. Предъявленная Лутугиным брошка была опознана Елагиными. По оставленному Перфильевой адресу таковой там обнаружить не удалось – таковая по означенному адресу не проживала…».
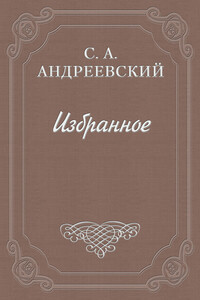
«Для русских Баден-Баден прежде всего – город Тургенева. Здесь он прожил в добровольной литературной ссылке почти все шестидесятые годы, сперва в меблированной квартире, а затем на собственной вилле. Здесь же, на этой вилле, написан и „Дым“ – поэма Бадена…».
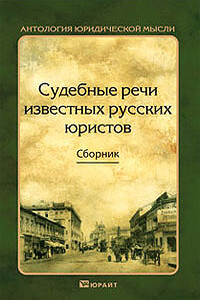
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«28 августа 1883 г. утром, около девяти часов, на Невском проспекте в Петербурге в доме, в котором была расположена ссудная касса, принадлежавшая И. И. Мироновичу, был обнаружен труп 13-летней девочки Сарры Беккер. Труп во время его обнаружения был уже совершенно холодным и находился в маленькой комнате кассы. Комната была заставлена мягкой мебелью. Покойная лежала навзничь поперек большого мягкого кресла. Одета Сарра была в новое праздничное платье, в чулках и полусапожках. Голова ее, с расплетенной косой и всклокоченными на лбу волосами, покоилась на ручке кресла и ручке рядом стоящего дивана.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.