Клеа - [6]
Картинка, двухмерная прежде, стала обретать объем и плотность, когда той же ночью в чернильно-черную бухту суетливо скользнула посланная Нессимом маленькая каика; на борту были трое, угрюмого вида люди, и у каждого — автомат. Они не были греки, но по-гречески говорили свободно, раздражительно и чуть свысока. У них нашлось бы о чем рассказать — об армиях, попавших в окружение, о замерзших насмерть солдатах, — но в некотором смысле было уже поздно, вино затуманило старикам головы. Да и балагурами эти трое не были. Но они произвели на меня впечатление, эти пришельцы из неведомого мира под названием «война». Приятные люди за столом, хорошая еда, хорошее вино, эти же сидели как на иголках. На небритых скулах застыли желваки, словно бы мышцы свело от усталости. Курили они жадно, сладострастно выпуская струйки сизого дыма разом из носа и рта. Когда они зевали, зевок завязывался чуть не от самой мошонки. Мы предали себя в их руки не без опаски: то были первые недружелюбные лица за несколько проведенных здесь лет.
В полночь мы вышли из бухты по касательной к лунной дорожке — луна стояла высоко, и тьма у горизонта стала чуть мягче и не внушала тревоги. С белого пляжа по-над водой неслись нам вслед несвязные, едва различимые слова прощания. Нет, все-таки ни один язык не провожает и не встречает так, как греческий!
Какое-то время мы шли вдоль прерывистой линии скал, то и дело попадая в чернильные пятна тени: торопливый пульс дизеля рябью перебегал от рифа к рифу, эхо собирало такты, как мальков, в стайки и залпами отправляло их обратно, к нам. Затем наконец-то открытое море. Мягкие, округлые груди волн принялись согласно, будто бы играючи, баюкать нас, развязывать в душе узлы. Ночь была тихой и теплой — до нарочитости, до перехлеста. Дельфин прыгнул, по носу, еще, еще раз. Мы легли на курс.
Ликование пополам с глубокой грустью, усталость и счастье. Я облизнул губы: добротная морская соль. Мы сели и молча выпили чаю с шалфеем. Девочка буквально онемела, зачарованная роскошью пути и ночи: мерцающий след за кормой, тающий понемногу во тьме, как хвост кометы, текучее, живое пламя. Над нами — раскидистая крона неба, перистые облака; высыпали звезды, огромные, будто цветы миндаля, перемигивались тихо, загадочно. В конце концов, счастливая сознанием добрых этих знаков, убаюканная вдохами и выдохами моря и монотонной песенкой мотора, она уснула, с улыбкой полураскрыв губы, прижав к щеке куколку из оливкового дерева.
Разве мог я не думать о прошлом, в которое мы возвращались на маленьком судне сквозь густые заросли времени по торным путям греческого моря? За мною следом ложилась ночь — словно раскручивалась лента тьмы. Морской полночный бриз мягче кисточки из лиса лизал лицо. Я лежал меж сном и явью, чувствуя, как тянет меня вниз тяжелый невод памяти: разбегаются по Городу нити, вены, жилки на листе, и память услужливо ловит в сеть не людей, но маски, разом прекрасные и злые. Я снова буду бродить по Александрии, думалось мне, уклончивой, недолговечной повадкой призрака — ибо всякий, кто ощутил однажды ход времени, иного, некалендарного времени, становится в каком-то смысле слова призраком. В сумеречном этом царстве я слышал эхо слов, сказанных давным-давно другими голосами. Бальтазар говорит: «Сей мир есть обещание счастья, оно нас ждет, но мы не в силах взять его». Извечное право сильного, коим пользуется Город в отношении каждого из своих жителей, калечит чувства, сваливает все и вся в бездонные свои резервуары и заливает их — всклянь — крутым рассолом старческих своих страстей. Чем сильнее мучит совесть, тем в поцелуях больше страсти. Жесты рук в янтарном сумраке закрытых ставнями комнат. Стаи белых голубей взлетают по спирали вверх меж минаретов. Эти картинки казались мне опознавательными знаками Города, каким я снова его увижу. Но я ошибся — ибо каждое следующее приближение не похоже на предыдущие. И всякий раз мы обманываем себя и думаем, что все будет так, как и прежде. Я и представить себе не мог, каким будет Город, когда я увижу его в первый раз с моря.
Было еще совсем темно, когда мы легли в дрейф на внешнем рейде невидимой гавани, вне пределов охранительного кольца фортов и противолодочных заграждений. Я попытался по памяти воскресить во тьме очертания Города. Бон поднимали только на заре. Царила тьма кромешная. Где-то впереди лежал берег Африки, «чьи поцелуи — тернии», как говорят арабы. Быть так близко от них, от башен и минаретов Города, и не иметь над ними воли, не воскресить их, не вылепить из тьмы — Господи, какая мука! Я подносил руку к самым глазам, но пальцев не видел. Море стало вдруг темной пустой прихожей, огромным пузырем тьмы.
И вдруг над морем пролетел словно некий гигантский выдох, будто ветер внезапно вздул угли, тлеющие под слоем золы; тьма неподалеку окрасилась в нежно-розовый цвет, как перламутровый испод большой морской раковины, — и цвет становился все глубже, пока не достиг насыщенной тональности цветка. Жутковатый тусклый вой пришел следом, он жил, он страдал, он бился крыльями черной доисторической птицы, неведомой и страшной, — корабельные сирены; так воют, должно быть, проклятые души в лимбе. Нервы дрогнули, как ветви дерева. Словно разбуженные воем, повсюду стали зажигаться огни, сначала порознь, потом цепочками, лентами, целыми гранями невидимого черного кристалла. Гавань высветила вдруг себя с ослепительной ясностью на темном фоне горизонта, и длинные белые пальцы прожекторов, словно припудренные дымкой, суетливо забегали по небу, будто ноги некоего неуклюжего жука, который упал на скользкую спину и пытается изо всех сил нащупать в пространстве точку опоры. Из дымки, прямо от воды, рванулся вверх плотный поток разноцветных ракет, чтобы расцвести, заполнить небо расточительной роскошью созвездий, переливчатых и плотных, гирляндами самоцветов и жемчужной белой взвесью. Воздух зарябил канонадой. Облака розовой и желтой пыли со спорадическими всполохами света поднялись до глянцевитых жирных дирижаблей, плавающих в пустоте тут и там, и подсветили их снизу. Казалось, задрожало даже море. Я и понятия не имел, что мы подошли так близко и что Город может быть настолько великолепен в обыденных военных сатурналиях. Он начал вдруг расти и пухнуть и взорвался у нас на глазах некой мистической темной розой; и бомбежка, захлестнувшая нас с головой, была ему аккомпанементом. Внезапно с удивлением мы обнаружили, что кричим друг на друга. «Вот горящие уголья Карфагена, какими видел их Августин, — подумал я, — вот мы, свидетели падения человека городского».

Четыре части романа-тетралогии «Александрийский квартет» не зря носят имена своих главных героев. Читатель может посмотреть на одни и те же события – жизнь египетской Александрии до и во время Второй мировой войны – глазами совершенно разных людей. Закат колониализма, антибританский бунт, политическая и частная жизнь – явления и люди становятся намного понятнее, когда можно увидеть их под разными углами. Сам автор называл тетралогию экспериментом по исследованию континуума и субъектно-объектных связей на материале современной любви. Текст данного издания был переработан переводчиком В.
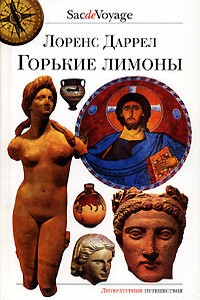
Произведения выдающегося английского писателя XX века Лоренса Даррела, такие как "Бунт Афродиты", «Александрийский квартет», "Авиньонский квинтет", завоевали широкую популярность у российских читателей.Книга "Горькие лимоны" представляет собой замечательный образец столь традиционной в английской литературе путевой прозы. Главный герой романа — остров Кипр.Забавные сюжеты, колоритные типажи, великолепные пейзажи — и все это окрашено неповторимой интонацией и совершенно особым виденьем, присущим Даррелу.
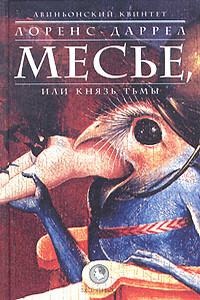
«Месье, или Князь Тьмы» (1974) — первая книга цикла «Авиньонский квинтет» признанного классика английской литературы ХХ-го столетия Лоренса Даррела, чье творчество в последние годы нашло своих многочисленных почитателей в России. Используя в своем ярком, живописном повествовании отдельные приемы и мотивы знаменитого «Александрийского квартета», автор, на это раз, переносит действие на юг Франции, в египетскую пустыню, в Венецию. Таинственное событие — неожиданная гибель одного из героев и все то, что ей предшествовало, истолковывается по-разному другими персонажами романа: врачом, историком, писателем.Так же как и прославленный «Александрийский квартет» это, по определению автора, «исследование любви в современном мире».Путешествуя со своими героями в пространстве и времени, Даррел создал поэтичные, увлекательные произведения.Сложные, переплетающиеся сюжеты завораживают читателя, заставляя его с волнением следить за развитием действия.
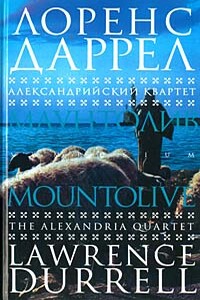
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррелла, Лоренс Даррелл (1912—1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Третий роман квартета, «Маунтолив» (1958) — это новый и вновь совершенно непредсказуемый взгляд на взаимоотношения уже знакомых персонажей.
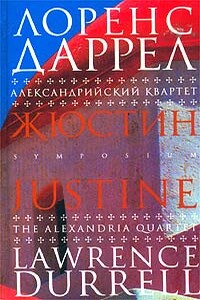
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1913-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Время расставило все на свои места.Первый роман квартета, «Жюстин» (1957), — это первый и необратимый шаг в лабиринт человеческих чувств, логики и неписаных, но неукоснительных законов бытия.
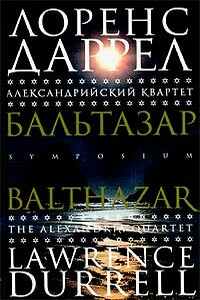
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1912-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в ней литературного шарлатана. Второй роман квартета — «Бальтазар» (1958) только подлил масла в огонь, разрушив у читателей и критиков впечатление, что они что-то поняли в «Жюстин».

В сборник вошли две повести и рассказы. Приключения, детективы, фантастика, сказки — всё это стало для автора не просто жанрами литературы. У него такая судьба, такая жизнь, в которой трудно отделить правду от выдумки. Детство, проведённое в военных городках, «чемоданная жизнь» с её постоянными переездами с тёплой Украины на Чукотку, в Сибирь и снова армия, студенчество с летними экспедициями в тайгу, хождения по монастырям и удовольствие от занятия единоборствами, аспирантура и журналистика — сформировали его характер и стали источниками для его произведений.
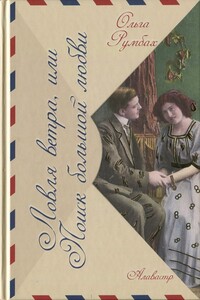
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
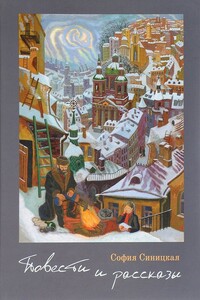
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.
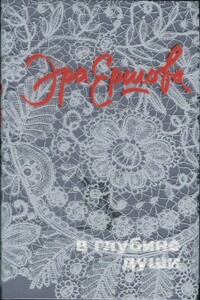
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

Замечательный роман на вечную тему — роман о любви. Блистательная «Жюстина» Лоренса Даррелла, не случайно названная так же, как и нашумевший в свое время роман маркиза де Сада: чувства в нем столь же изысканы, экзотичны, и он не менее глубок психологически и философски.Можно только позавидовать читателям, которые впервые откроют для себя волшебный мир этого автора.