Классы наций. Феминистская критика нациостроительства - [76]
Комментарий о научном (по)знании
Каким образом «новое» знание могло получить академическое признание? Ведь, согласно Людвику Флеку, «все известное всегда казалось систематическим, доказанным, имеющим практический смысл и самоочевидным для знающего. Каждая новая система знания, наоборот, казалась противоречивой, бездоказательной, ни к чему не приложимой, надуманной и мистической»[391].
Поставленный выше вопрос логически равен другому: каким образом могло быть так, что в советское время вердикт истинности выносила партия? Принято считать, что наука пользуется своими методами и собственно научной аргументацией, а в таком случае заставить общество принять «нужное» за истину можно только посредством прямого принуждения. Однако это означало бы, что все советские ученые из страха подводили свои выводы под результаты, ожидаемые партией, а все советские люди лгали, что верят в «неправильное» знание. Это очевидно не так, и, значит, производство научной легитимности – более сложный процесс социального признания научного доказательства.
Согласно М. Фуко, которому мы обязаны формулой «власть – знание», в различные исторические периоды существуют разные «эпистемы» или «режимы истины», т. е. способы аргументации и институциональные процедуры, которые считаются необходимыми для обеспечения научной достоверности. Наука опирается на научный метод – безличные, абстрактные и постоянные процедуры, но эти процедуры не возникают «ниоткуда», их устанавливают люди, руководствующиеся различными соображениями о том, какими эти процедуры должны быть, и входящие в различные институты. Например, О. Журавлев в статье о московском физфаке 1950-х годов, где также происходила конфронтация «старого» и «нового» знания, принявшая форму борьбы между «старой» (классической) и «новой» (квантовой) физикой, пишет, что в дискуссиях того времени можно было выделить два способа обоснования научной истины: «философский», характеризующийся работой теоретического воображения, и «сциентистский», базирующийся на экспериментальной процедуре. Победа «новой» физики, на что ушли десятилетия, была достигнута благодаря не только собственно экспериментальным данным, использованным в реальных оборонных проектах, но и всей расстановке сил в поле науки того периода, включая отношения ученых с комитетом комсомола и партийной организацией факультета, а также условия финансирования исследований[392]. Однако в естественных науках «истинность» считается связанной с практическим результатом, с тем, «загорится ли лампочка». В гуманитаристике «лампочки» обычно не существует и вопрос истинности решают эксперты.
Процитированный выше эпистемолог Людвик Флек считал, что наука является коллективным предприятием и осуществляется «мыслительным коллективом», а знание производится не только отдельным исследователем, но всем полем науки и институтов, которые в него входят; оно производится «в ответ» на ожидания и ценности аудитории (коллеги, ВАК, студенты, более широкая публика), научного рынка, рецензентов. Статус научного продукта, признание его «истинным» зависит от правил оценивания, как явных, так и подразумеваемых. Если знание всегда включено в сложные отношения с другим знанием (по М. Фуко, «нельзя сказать что угодно в любой момент времени»[393]), научные аргументы являются не только научными, но и социальными феноменами: «Рациональные единства, такие как суждения, аргументы или теории суть социальные единства, т. е. они являются социальными институтами или частями социальных институтов или зависят от социальных институтов»[394]. Иными словами, «гарантами» научности выступают социальные институты, прежде всего академия. Место советского марксизма – единственной «все объясняющей» концепции – довольно быстро заняли перенесенные на постсоветскую почву «культура», «сексуальность», «идентичность», «гендер», «постмодернизм», глобализация. Однако, не имея «выстраданного» содержания, выросшего из собственной научной традиции, эти теории оказались «произвольными»: создалась логика интеллектуального шведского стола[395]. Легитимация такого «произвольного» знания требует опоры на признанную социальную силу, которая своим «авторитетом» гарантирует соответствие научной процедуре. Такой силой на постсоветском пространстве стала западная академия. Ее авторитет и материальные ресурсы, обеспечившие легитимность нового научного дискурса и связь с некоторыми реальными агентами, формирующими научное поле, определили авторитетность высказываний и текстов и вывели на поле новых научных игроков.
В этой ситуации важны легко считываемые маркеры интеллектуальной принадлежности научного продукта, которые без труда распознаются как «своими», так и «чужими». Что может быть легко читаемым знаком потенциально нового содержания? Очевидно, «первыми» маркерами, предназначенными для управления вниманием аудитории, являются названия. При диверсификации и мощном росте рынка символических продуктов авторская стратегия состоит в том, чтобы уложить все важное в заглавие, привлечь внимание, показать возможному читателю ценность текста
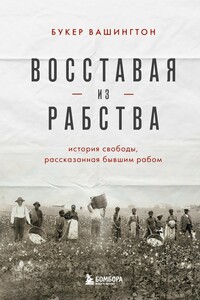
С чего началась борьба темнокожих рабов в Америке за право быть свободными и называть себя людьми? Как она превратилась в BLM-движение? Через что пришлось пройти на пути из трюмов невольничьих кораблей на трибуны Парламента? Американский классик, писатель, политик, просветитель и бывший раб Букер Т. Вашингтон рассказывает на страницах книги историю первых дней борьбы темнокожих за свои права. О том, как погибали невольники в трюмах кораблей, о жестоких пытках, невероятных побегах и создании системы «Подземная железная дорога», благодаря которой сотни рабов сумели сбежать от своих хозяев. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
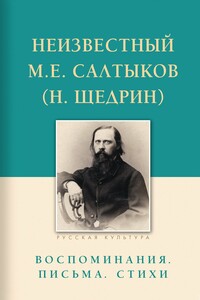
Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин) известен сегодняшним читателям главным образом как автор нескольких хрестоматийных сказок, но это далеко не лучшее из того, что он написал. Писатель колоссального масштаба, наделенный «сумасшедше-юмористической фантазией», Салтыков обнажал суть явлений и показывал жизнь с неожиданной стороны. Не случайно для своих современников он стал «властителем дум», одним из тех, кому верили, чье слово будоражило умы, чей горький смех вызывал отклик и сочувствие. Опубликованные в этой книге тексты – эпистолярные фрагменты из «мушкетерских» посланий самого писателя, малоизвестные воспоминания современников о нем, прозаические и стихотворные отклики на его смерть – дают представление о Салтыкове не только как о гениальном художнике, общественно значимой личности, но и как о частном человеке.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.