Киоск нежности - [5]
Лимузин-саркофаг
Воздушная смерть
Раздавленной нежности Лидии Азадовской, которой на этом свете больше не встречу.
1920. Августа
Неожиданная инфанта
Панельная колыбельная
Виктору Пальмову
1919 Июль.
Родное далекое
И. Г. Ведерникову. Бог даст снова будем дома!..
Осенник
Николаю Асееву, чья лирика – ладанная заря.
О сотой весне…
Сергею Третьякову, умеющему предчувствовать.
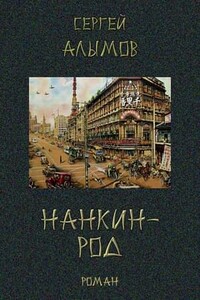
Прежде, чем стать лагерником, а затем известным советским «поэтом-песенником», Сергей Алымов (1892–1948) успел поскитаться по миру и оставить заметный след в истории русского авангарда на Дальнем Востоке и в Китае. Роман «Нанкин-род», опубликованный бывшим эмигрантом по возвращении в Россию – это роман-обманка, в котором советская агитация скрывает яркий, местами чуть ли не бульварный портрет Шанхая двадцатых годов. Здесь есть и обязательная классовая борьба, и алчные колонизаторы, и гордо марширующие массы трудящихся, но куда больше пропагандистской риторики автора занимает блеск автомобилей, баров, ночных клубов и дансингов, пикантные любовные приключения европейских и китайских бездельников и богачей и резкие контрасты «Мекки Дальнего Востока».