Кьеркегор - [4]
В лютеранстве страдание лежит в основе весьма строгого представления о природе человека: в мире, опороченном первородным грехом, страдание считается необходимым условием и тяжким испытанием, через которое обязательно надо пройти. Но вера может прийти на помощь душе и помочь ей справиться с мучениями: вера наделяет их смыслом и тем самым спасает человека от абсурда. Таким образом, она становится не просто движением духа, направленным на достижение вечного спасения и обретение вечного блаженства, но и деятельностью мысли в той степени, в которой благодаря этому движению мир обретает определенный смысл. Вера представляет собой не что иное, как способ познания внутреннего мира человека.
Если страдания укрепляют веру, то человек не должен бежать от них, ища забвения в мирских благах (как говорил Блез Паскаль, «отвлекаться»), но напротив, стремиться к нему, как к неожиданному, дарованному Богом шансу возвыситься к нему душой. Как следствие, христианин – это человек страдания, а христианство, в виде страстей Христовых есть, по сути, единственный способ познать Бога. Отсюда напрашивается неизбежный вывод: если Христос представляет собой модель земного существования и абсолютную истину, то истина эта неизменно приводит к страданию всякого, кто пытается ее принять, позволив ей при этом нарушить привычное течение его жизни. Страдания – это призвание христианина, и Кьеркегор, на чью долю с самого детства их выпало немало, попытался реализовать его сполна. Именно эта разновидность христианства неумолимой логикой своей требовательности побудила Кьеркегора к разрыву с церковью своей страны. Для него христианство, как и внутренняя жизнь, чуждо миру и всегда ему противостоит.
Здесь нужно подчеркнуть особо, что Кьеркегор громогласно отстаивает свое право называться религиозным мыслителем, который совсем не обязательно должен быть просветителем, и у нас еще будет возможность к этому вопросу вернуться. В итоге он получает известность как оппонент Гегеля и критик созданной им философской системы, но противоположность этих мыслителей основывается не столько на теоретическом, сколько на религиозном фундаменте, потребовавшем от Кьеркегора выступить против государственной церкви и высказать соображения по ее реформированию. По собственным словам философа, все его труды служат одной-единственной цели: «пролить свет на природу христианства» (X>1 646).
Однако предложенный им путь, по всей видимости, оказался слишком узким, а шаги на этом поприще явно непродуманными. Несмотря на все усилия, Кьеркегор так и не стал самой значимой фигурой религиозного возрождения – этого титула удостоился Николай Фредерик Северин Грундтвиг (1783–1872), лютеранский теолог, преподаватель и поэт. Он тоже обрушивался с нападками на рационализм Гегеля, оказавший такое влияние на теологию, и противопоставлял ему романтическую философию. Но там, где Кьеркегор обещал кровь, пот и слезы, Грундтвиг вносил успокоение. Первый повышал в цене страдание и жертвы, второй больше опирался на такой аспект, как рассудительный «национальный» характер датчан. Кьеркегор не мог не сожалеть о такой «мягкотелости»:
«Беда нашей эпохи совсем не в том, что она существует со всеми ее недостатками; беда нашей эпохи как раз в пагубном стремлении к реформам – к этому кокетливому, лицемерному желанию все изменить, не страдая и не принося жертв».
1.2. Философский контекст
В плане философии XIX век начинается столкновением, а потом и диалогом между рационализмом Просвещения и идеализмом романтической культуры.
Просвещение стояло у истоков основополагающего философского течения XIX века, в зависимости от конкретной страны приобретшего те или иные специфические формы. Главная общая черта этих форм состоит в практически безграничной вере в разум, выступающий с критикой предполагаемого или действительного обскурантизма устаревших воззрений, но относящийся положительно к установлению законов и норм для науки, политики, морали и религии, и считающий подобную деятельность именно своей прерогативой и независимой мысли как своего порождения. В работе «Что значит ориентироваться в мышлении?» Иммануил Кант очень хорошо объясняет, что здесь имеется в виду: «Мыслить самому означает искать высший критерий истины в самом себе (то есть в собственном разуме). А максима: всегда мыслить самому – есть просвещение [Aufklarung]». И Скандинавия как культурная наследница Германии в полной мере испытала на себе влияние Aufklarung.
Таким образом, с точки зрения Просвещения разум представляет собой конечную силу, способную в рамках своих возможностей противостоять миру и осуществлять в нем преобразования. Но поскольку эта сила далеко не всемогуща, то в ходе своей деятельности ей приходится сталкиваться с вещами, одолеть которые она не может. Еще в последней трети XVIII века германское движение «Буря и натиск» (название книги Максимилиана Клингера) предложило пойти по пути не разума, а чувств или веры, но только когда разум стал считаться не конечной, а бесконечной силой,

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.
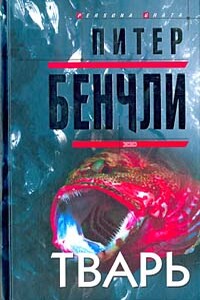
Из неимоверных глубин Мирового океана поднимается чудовище, несущее с собой первобытный ужас и смерть. Все живое, что попадает в его мир, это жуткое создание воспринимает одинаково — как объект для уничтожения и поглощения. Оно не знает ни жалости, ни страха, у него нет врагов и соперников — да и кто мог бы противостоять этой бездушной силе?
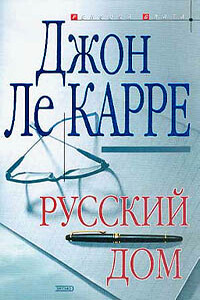
Трудно найти две более несовместимые вещи, чем любовь и война, однако встреча британского издателя Барли Блэйра с русской женщиной Катей Орловой произошла именно на «переднем крае» холодной войны. Против собственной воли они оказались втянуты в игру спецслужб ведущих держав, развернувшуюся вокруг рукописи известного советского ученого, содержание которой способно взорвать хрупкое мировое равновесие. Джон Ле Карре, в прошлом кадровый сотрудник британской разведки, а сегодня один из самых популярных в мире писателей, с большим мастерством анализирует внутренний конфликт, разгорающийся в душе человека, вынужденного делать нелегкий выбор между патриотическим долгом и страстью.
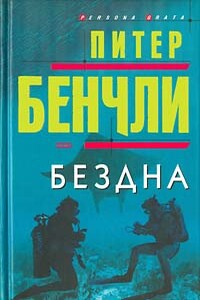
В поисках затонувших кораблей герои романа обнаруживают на морском дне загадочный груз, на первый взгляд не представляющий собой особой ценности, и оказываются вовлечены в череду зловещих событий.Роман «Бездна» – один из лучших в творчестве Питера Бенчли, мастера «подводного» триллера и автора знаменитых «Челюстей».
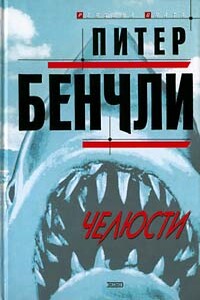
Роман Питера Бенчли, появившийся в 70-х годах XX века, сразу завоевал необыкновенную популярность у читателей и стал культовой книгой. Вдохновившись сюжетом романа, молодой, тогда еще никому не известный кинорежиссер Стивен Спилберг создал свой шедевр — фильм ужасов «Челюсти», открывший новую эпоху в развитии кинематографа. Книга неоднократно переиздавалась многотысячными тиражами на разных языках. Мы рады представить вам русское издание этого мирового бестселлера.