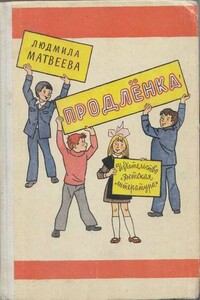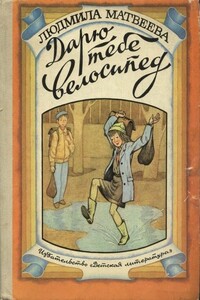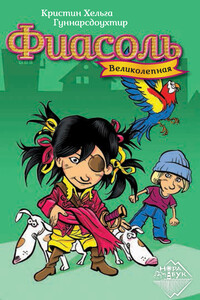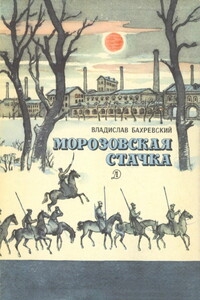Любке становится весело. Ей не жалко, что выручила Панову. Пусть. Не все такие зловредные, она вот ни капли не зловредная.
Вера Ивановна объясняет урок. Она объясняет чётким голосом, каждое слово отдельно, и немного сердито: как будто заранее сердится на тех, кто не поймёт. Чего ж тут не понять, когда всё так понятно и ясно объяснили? Вера Ивановна объясняет очень понятно. Если не отвлекаться и слушать всё время, тогда все уроки кажутся лёгкими и все задачи кажутся лёгкими. Но самое нелёгкое именно не отвлекаться. Люба смотрит, не отрываясь, на учительницу. И думает о правилах деления, про которые говорит Вера Ивановна. Это очень интересно, правила деления. Такие строгие, неумолимые правила деления. И никак не может быть, что число не делится, а один раз возьмёт вдруг и разделится. Никогда не может такого случиться. А неужели и в самом деле никогда? Никогда-никогда? А вот бы все удивились, если бы вдруг именно разделилось бы пятнадцать на семь без остатка. Или бы триста — на девять. Или бы…
— Опять ты, Люба, отсутствуешь? — слышит Любка голос Веры Ивановны. — Неужели не понимаешь, что надо внимательно слушать, а не раздумывать о чём-то постороннем.
Любка поёрзала виновато на парте и опять стала прислушиваться к каждому слову учительницы. В тишине голос Пановой прошептал:
— Она мечтает, потому что влюбилась. В Лёвку Соловьёва из четвёртого.
Любка подпрыгнула на парте. Она почувствовала, что туман застилает глаза. Стыд, и обида, и гнев перехватили горло, она не могла ничего ответить, ничего сделать Пановой. Она никогда не могла ничего сделать Пановой. И ответить не могла на её колкости и дразнилки. Убийственные ответы приходили потом, слишком поздно, когда Панова была уже далеко. А в этот момент, когда Панова обижала Любку, у Любки застилало мозги, она не знала, как отплатить Пановой, и от этого мучилась. Вот и сейчас. У Любки покраснело перед глазами, её зазнобило и сразу кинуло в жар. И она стала глотать воздух. Она не любила себя такую. Коварство Аньки, её неблагодарность парализовали, выбивали почву из-под ног. Хорошо ещё, что Вера Ивановна продолжает объяснять, не делает Любе замечаний. Люба сидит и смотрит на Веру Ивановну. Но она не слушает, она мечтает. Хорошо бы, когда Панова пойдёт из школы, на неё откуда-нибудь упал бы большой камень. Разве не может упасть камень? Очень даже может: раз! — и упал. И тогда эта Панова узнала бы. Её бы придавило, она бы там под камнем визжала, кричала. А Люба бы прошла мимо и даже не повернулась бы. Медленно бы прошла и напевала бы какую-нибудь весёлую песню. Или бы шла-шла Панова, а вдруг яма. И Анька в эту яму — бац!..
Прозвенел звонок. Люба очнулась.
— Все поняли? — строго спросила Вера Ивановна.
— Да-а… — прогудел класс.
Вера Ивановна посмотрела на всех внимательно и немного насмешливо.
— Идите. Только не шуметь.
Снег летит как-то снизу вверх. Ветер. И кажется, что вся земля перевернулась. Любка подставляет лицо снегу. И снег щекотно задевает по щекам, по лбу. Когда идёт снег, всегда радостно. Почему-то сколько раз уж видела Люба снег, а всегда хорошо, если идёт снег. Красивым он кажется, и свежим, и необычным. Она рассматривает каждую снежинку. Вот села на варежку крошечная кружевная салфетка. Совсем маленькая. Но можно разглядеть сложный узор, переплетаются лёгкие паутинки. Люба поднимает голову: снежинки кружатся вверху и летят не прямо к земле, а вбок, по кругу и вверх — как попало. Долго стоит Люба, задрав голову, и разглядывает снег.
Потом медленно идёт по улице, сворачивает в переулок. В переулке ветра нет, и снег идёт спокойнее. Снежинки не кружатся, а плавно, как маленькие парашютики, садятся на землю.
Люба входит во двор. И сразу, ещё от ворот, видит эту машину. Зелёная машина с красным крестом на дверце, «скорая помощь». Машина стоит в том конце двора. Люба подбегает к машине и на ходу привычно скрещивает пальцы, средний поверх указательного, и бормочет: «Чур, горе не моё». Считается, что так надо обороняться от несчастья, если встретишь санитарную машину или катафалк. От машины пахло поликлиникой. Стояла заплаканная Ольга Борисовна. Внутри машины в полумраке лежала на носилках Белка в зимнем пальто, в шапке, и ноги в валенках смотрели в сторону двери.
— Белка! Ты что? — позвала Люба.
Ольга Борисовна увидела Любу, всхлипнула и сказала сиплым от слёз голосом:
— Не подходи. Скарлатина.
Белка не откликалась. А если бы откликнулась, Люба не знала бы, что ей сказать. Она стояла и смотрела на Белкины валенки. Вышла соседка Белки Елена Георгиевна. Седая красавица, все во дворе её звали гречанкой. Она как будто ждала, когда Ольга Борисовна заплачет. Как только Ольга Борисовна всхлипнула, соседка кинулась к ней:
— Не надо расстраиваться, не надо плакать…
Ольга Борисовна от этих слов заплакала громче.
— Ну что вы, что вы, — сказала гречанка, — надо себя беречь…
Ольга Борисовна плакала. А Белка тихо лежала в тёмной машине и ни на кого не смотрела.
— Белка… — опять тихонько позвала Люба. — Белка, ты в больницу не бойся. Подумаешь, какое дело, — больница и больница, ничего такого особенного.