Картины - [6]
Я на пути к своего рода комедии: Мне кажется, это должно стать многозначным раздвоением на желания и сны. Целая серия загадочных личностей. Просто поразительно, как они появляются и исчезают, но, разумеется, он не слишком хорошо следит за своими персонажами. Теряет их и потом вновь находит.
Затем я пишу самому себе: "Терпение, терпение, терпение, терпи, терпение, без паники, успокойся, не бойся, не поддавайся усталости, не считай сразу же, что все это очень скучно. То время, когда тебе удавалось создать сценарий за три дня, давно прошло".
Но вот дело сдвинулось: "Да, уважаемые дамы, я видел громадную рыбу, может, даже не рыбу, а скорее подводного слона, или же то был бегемот, или совокупляющийся морской змей! Я был на Глубоком Месте в горной расщелине, сидел там в тишине и спокойствии".
Потом "Я" обретает более четкие контуры: "Я был одним из самых выдающихся в мире артистов эстрады. В этом качестве и отправился в круиз. Меня наняли за весьма приличный гонорар. Провести какое-то время на море и в покое, придти в себя — все это представлялось мне чем-то необычайно привлекательным…"
Но, честно говоря, я приближаюсь к тому возрасту, когда деньги не имеют больше никакого значения. Теперь я живу один, за плечами несколько браков. Они обошлись мне в кругленькую сумму. У меня много детей, которых я либо знаю довольно мало, либо вовсе не знаю. Мои человеческие неудачи заслуживают внимания. Поэтому я прилагаю все силы, чтобы быть превосходным артистом эстрады. Хотел бы в тоже время заметить, что я не какой-нибудь импровизатор. Свои номера я готовлю самым тщательным образом, чуть ли не с педантизмом. За то время, что мы провели здесь на острове после кораблекрушения, я записал немало новых заготовок, которые, как я надеюсь, сумею разработать после возвращения в студию.
/27 декабря:/ Как дела с моей комедией? Ну, кое-что сдвинулось с места. А именно — мои Призраки. Призраки дружелюбные, жестокие, веселые, глупые, страшно глупые, милые, горячие, теплые, холодные, тупые, боязливые. Они все активнее плетут против меня заговор, становятся таинственными, двусмысленными, странными, иногда угрожающими. Так что все идет, как идет. У меня появляется предупредительный Спутник, который снабжает меня различными идеями и грезами. Постепенно он, однако, меняется. Становится грозным и беспощадным.
Некоторые восприняли "Час волка" как шаг назад по сравнению с "Персоной". Но все не так просто. "Персона" была удачным прорывом, давшим мне мужество продолжить поиски неведомых путей. Эта картина в силу разных причин более откровенна. В ней есть за что ухватиться: кто-то молчит, кто-то говорит — конфликт. А "Час волка" расплывчатее: сознательный формальный и мотивированный распад. Сегодня, когда я вновь смотрю "Час волка", я понимаю, что фильм повествует о скрытой и строго оберегаемой раздвоенности, проявляющейся и в ранних моих фильмах, и в поздних: Аман в "Лице", Эстер в "Молчании", Тумас в "Лицом к лицу", Элисабет в "Персоне", Измаил в "Фанни и Александре". Для меня "Час волка" важен, поскольку представляет собой попытку проникнуть в труднодоступную проблематику, предварительно очертив ее границы. Я осмелился сделать несколько шагов, но не преодолел всего пути.
Если бы я потерпел неудачу с "Персоной", я ни за что бы не рискнул поставить "Час волка". Этот фильм не шаг назад. Это неуверенный шаг в нужном направлении. На гравюре[7] Акселя Фриделля изображена группа карикатурных людоедов, готовых наброситься на крошечную девочку. Все ждут, когда в погруженной в сумрак комнате погаснет восковая свеча. Девочку охраняет дряхлый старик. Укрывшийся в тени истинный Людоед в костюме клоуна дожидается, когда догорит свеча. Во мраке там и сям видны устрашающие фигуры.
Предполагаемая заключительная сцена: я вешаюсь на потолочной балке, делаю то, что вообще-то давно собирался, дабы подружиться с моими Призраками. Они ждут внизу, у моих ног. После самоубийства — праздничный ужин — распахиваются двойные двери. Под звуки музыки (паваны) я под руку с Дамой приближаюсь к столу, ломящемуся от яств.
У "Я" есть любовница. Она живет на материке, но летом ведет мое хозяйство. Это крупнотелая, молчаливая, миролюбивая женщина. Мы вместе плывем на остров, вместе ходим по дому, вместе ужинаем. За обедом я выдал ей хозяйственные деньги. Внезапно она начала смеяться. У нее выпал зуб. Когда она смеялась, это было заметно, и она смущалась. Не стану утверждать, будто она красива, но мне с ней хорошо, и я прожил с ней пять лет.
"Причастие", если хотите, представляет собой нравственную победу и разрыв. Потребность нравиться публике всегда вызывала у меня неловкость. Моя любовь к зрителю складывалась непросто, с сильной примесью боязни не угодить. В основе художественного самоутешения лежало и желание утешить зрителя: подождите, не все так страшно! Страх потерять власть над людьми… Мой законный страх потерять хлеб насущный. Тем не менее, порой возникает гневливая потребность обнажить оружие, отбросить всяческую лесть. С риском быть вынужденным пойти на двойные компромиссы в дальнейшем (кинематограф не отличается особой деликатностью в отношении собственных анархистов), однажды распрямиться и без признаков сожаления или дружелюбия показать мучительную для человека ситуацию — это воспринимается как освобождение. Кары, по-видимому, не избежать. У меня до сих пор не стерлись тягостные воспоминания о приеме, оказанном "Вечеру шутов" — моей первой попытке в этом жанре.

Наш современник Ингмар Бергман вряд ли нуждается в особом представлении. Он - всемирно известный кинорежиссер и один из создателей авторского кинематографа, выдающийся театральный режиссер и писатель. Роман "Благие намерения" вышел в свет в 1991 г., а уже в 1992 г. по нему был поставлен художественный фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале. О чем этот роман? О человеческой судьбе, о поисках любви и мечте о счастье, о попытках человека, часто безуспешных и порой трагичных, противостоять силам зла и разрушения во внешнем мире и в нем самом.
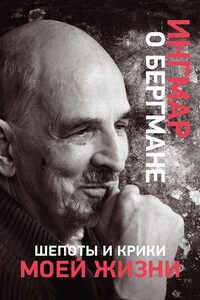
«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
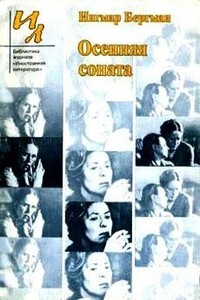
История распада семьи пианистки Шарлотты и двух её дочерей, Евы и Хелен.Шарлота, всемирно известная пианистка, только что потеряла Леонарда – человека, с которым жила многие годы. Потрясенная его смертью и оставшаяся в одиночестве, она принимает приглашение своей дочери Евы и приехать к ней в Норвегию погостить в загородном доме. Там ее ждет неприятный сюрприз: кроме Евы, в доме находится и вторая дочь – Хелен, которую Шарлотта некогда поместила в клинику для душевнобольных. Напряженность между Шарлоттой и Евой возрастает, пока однажды ночью они не решаются высказать друг другу все, что накопилось за долгие годы.
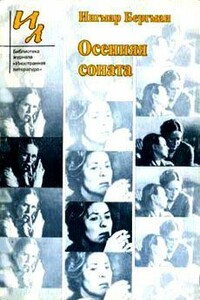
Должен признаться, я верен до конца только одному – фильму, над которым работаю. Что будет (или не будет) потом, для меня не важно и не вызывает ни преувеличенных надежд, ни тревоги. Такая установка добавляет мне сил и уверенности сейчас, в данный момент, ведь я понимаю относительность всех гарантий и потому бесконечно больше ценю мою целостность художника. Следовательно, я считаю: каждый мой фильм – последний.
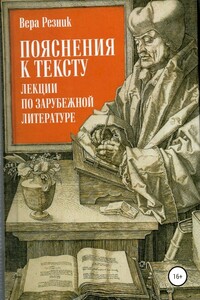
Эта книга воспроизводит курс лекций по истории зарубежной литературы, читавшийся автором на факультете «Истории мировой культуры» в Университете культуры и искусства. В нем автор старается в доступной, но без каких бы то ни было упрощений форме изложить разнообразному кругу учащихся сложные проблемы той культуры, которая по праву именуется элитарной. Приложение содержит лекцию о творчестве Стендаля и статьи, посвященные крупнейшим явлениям испаноязычной культуры. Книга адресована студентам высшей школы и широкому кругу читателей.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.
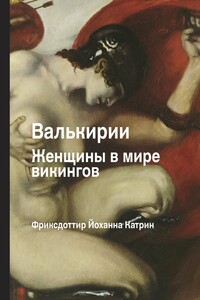
Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.
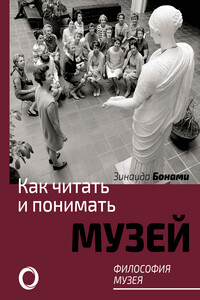
Что такое музей, хорошо известно каждому, но о его происхождении, развитии и, тем более, общественном влиянии осведомлены немногие. Такие темы обычно изучаются специалистами и составляют предмет отдельной науки – музеологии. Однако популярность, разнообразие, постоянный рост числа музеев требуют более глубокого проникновения в эти вопросы в том числе и от зрителей, без сотрудничества с которыми невозможен современный музей. Таков принцип новой музеологии. Способствовать пониманию природы музея, его философии, иными словами, тех общественных идей и отношений, которые формировали и трансформировали его – задача этой книги.
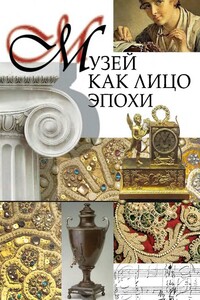
В сборник вошли статьи и интервью, опубликованные в рамках проекта «Музей — как лицо эпохи» в 2017 году, а также статьи по теме проекта, опубликованные в журнале «ЗНАНИЕ — СИЛА» в разные годы, начиная с 1960-х.
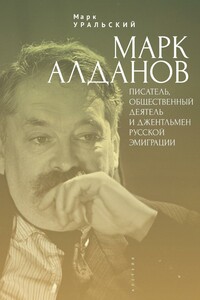
Вниманию читателя предлагается первое подробное жизнеописание Марка Алданова – самого популярного писателя русского Зарубежья, видного общественно-политического деятеля эмиграции «первой волны». Беллетристика Алданова – вершина русского историософского романа ХХ века, а его жизнь – редкий пример духовного благородства, принципиальности и свободомыслия. Книга написана на основании большого числа документальных источников, в том числе ранее неизвестных архивных материалов. Помимо сведений, касающихся непосредственно биографии Алданова, в ней обсуждаются основные мировоззренческие представления Алданова-мыслителя, приводятся систематизированные сведения о рецепции образа писателя его современниками.