Картины - [10]
С долго сдерживаемой детской жадностью я набросился на своего медиума и двадцать лет без устали, в каком-то неистовстве передавал сны, чувственные переживания, фантазии, приступы безумия, неврозы, судороги веры и беззастенчивую ложь. Мой голод был неутолим. Деньги, известность и успех были поразительными, но в основе своей безразличными для меня результатами этого буйства. Этим я вовсе не хочу умалить того, что у меня случайно получилось. Искусство как самоудовлетворение может, безусловно, иметь определенное значение — в первую очередь для художника. Таким образом, если быть до конца откровенным, я воспринимаю искусство (не только киноискусство) как нечто несущественное. Литература, живопись, музыка, кино и театр сами зачинают себя и сами себя производят на свет. Возникают и исчезают новые мутации, новые комбинации, движение извне кажется нервозно-жизнедеятельным — величественное рвение художников спроецировать для самих себя и, для все более скучающей, публики картину мира, уже не интересующегося ни их мнением, ни их вкусами. В немногочисленных заповедниках художников карают, считая искусство опасным и потому достойным удушения или контроля. В основном же, однако, искусство свободно, бесстыдно, безответственно, как сказано: движение интенсивно, почти лихорадочно и напоминает, как мне представляется, змеиную кожу, набитую муравьями. Сама змея давно мертва, съедена, лишена яда, но оболочка, наполненная суетливой жизнью, шевелится.
Я надеюсь, я убежден в том, что другие обладают более сбалансированным и мнимо объективным восприятием. И если я, несмотря на всю эту скуку, несмотря ни на что, утверждаю, что хочу заниматься искусством, то делаю это по одной простой причине. (Я отбрасываю чисто материальные соображения). Причина — любопытство. Безграничное, неутоляемое, постоянно обновляющееся, нестерпимое любопытство толкает меня вперед, ни на минуту не оставляя в покое, полностью заменяя жажду общности, которую я испытывал в былые времена. Чувствую себя осужденным на длительный срок узником, внезапно выброшенным в грохот и вой жизни. Меня охватывает неуемное любопытство. Я отмечаю, наблюдаю, у меня ушки на макушке, все нереально, фантастично, пугающе или смешно. Я ловлю летящую пылинку, возможно, это фильм — какое это имеет значение, да никакого, но мне эта пылинка кажется интересной, посему я утверждаю, что это фильм. Я кружусь с этим собственноручно пойманным предметом, представляя веселое или меланхоличное занятие. Я пихаю других муравьев, мы выполняем колоссальную работу. Змеиная кожа шевелится. В этом и только в этом заключается моя истина.
Я не требую, чтобы она становилась истиной для кого-то еще, и это, естественно, слабоватое утешение с точки зрения вечности. Но как основы для художественного творчества в ближайшие несколько лет этого совершенно достаточно, по крайней мере, для меня. Быть художником ради самого себя не всегда приятно. Но здесь есть одно огромное преимущество: у художника равные условия с любым другим живым созданием, тоже существующим только ради самого себя. В результате возникает, очевидно, довольно многочисленное братство, обитающее таким способом в эгоистической общности на этой теплой, грязной земле под холодным и пустым небом.
"Змеиная кожа" написана в прямой связи с работой над "Персоной". Это можно проиллюстрировать записью в рабочем дневнике от 29 апреля: "Я должен попытаться держаться следующих правил: Завтрак в половине восьмого с другими пациентами. Затем немедленно подъем и утренняя прогулка. В указанное время никаких газет или журналов. Никаких контактов с Театром. Не принимать писем, телеграмм или телефонных сообщений. Визиты домой допускаются по вечерам. Чувствую, что приближается решающая битва. Нельзя больше ее откладывать. Я должен придти к какой-то ясности. В противном случае с Бергманом будет покончено навсегда".
Из приведенной записи ясно, что кризис зашел глубоко. Я составил точно такие же предписания, когда пытался подняться после истории с налогами. Педантичность стала для меня способом выживания. Из этого кризиса рождается "Персона". Итак, она была актрисой — почему бы себе этого не позволить? И потом замолчала. Ничего в этом особенного нет.
Начну, пожалуй, со сцены, в которой врач сообщает сестре Альме о том, что случилось. Это первая, основополагающая сцена. Сиделка и пациентка сближаются, срастаются, как нервы и плоть. Но она не говорит, отвергает собственный голос. Не хочет лгать.
Это одна из первых записей в рабочем дневнике, датированная мной 12 апреля. Там есть еще кое-что, не выполненное мной, но имеющее, тем не менее, отношение к "Персоне" и, главным образом, к названию картины: "Когда сестру Альму навещает ее жених, она впервые обращает внимание на то, как он говорит, как он к ней прикасается. И приходит в ужас потому, что замечает, что он совершает поступки, играет роль".
Кровоточащая рана вызывает отвращение, и в этом случае человек не способен притворяться. На этой стадии мне было страшно тяжело. У меня появилось чувство, что само мое существование находится под угрозой. Можно ли сделать это внутренним процессом? Я имею в виду намекнуть, что это переложенные на музыку разные голоса в concerto grosso одной и той же души? В любом случае фактор времени и пространства должен иметь второстепенное значение. Одна секунда покрывает длительный временной космос и содержит горсть разрозненных, не связанных между собой реплик. Здесь уже проглядывает готовый фильм. Актеры перемещаются из пространства в пространство, не нуждаясь в дорогах. Происходящее по мере надобности растягивается или сокращается. Понятие времени упразднено. Затем идет нечто, своими корнями уходящее глубоко в детство: У меня перед глазами белая, смытая полоска кинопленки. Она крутится в проекторе, и постепенно на звуковой дорожке (которая, может быть, бежит рядом) возникают слова. И вот звучит именно то слово, которое я себе представлял. И мелькает лицо, почти совсем размытое белизной. Это лицо Альмы. Лицо фру Фоглер. Когда я был мальчишкой, в одном из магазинов игрушек продавали использованную нитратную пленку. Она стоила пять эре метр. Я погружал 30–40 метров пленки на полчаса в крепкий раствор соды. Эмульсия растворялась, изображение исчезало. Пленка становилась белой, невинной и прозрачной. Без картинок. Теперь тушью разных цветов я мог рисовать новые картинки. И когда потом, после войны, появились рисованные непосредственно на кинопленке фильмы Нормана МакЛарена, для меня это не было новинкой. Бегущая через проектор пленка, взрывающаяся отдельными картинками и короткими эпизодами, жила во мне давно.

Наш современник Ингмар Бергман вряд ли нуждается в особом представлении. Он - всемирно известный кинорежиссер и один из создателей авторского кинематографа, выдающийся театральный режиссер и писатель. Роман "Благие намерения" вышел в свет в 1991 г., а уже в 1992 г. по нему был поставлен художественный фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале. О чем этот роман? О человеческой судьбе, о поисках любви и мечте о счастье, о попытках человека, часто безуспешных и порой трагичных, противостоять силам зла и разрушения во внешнем мире и в нем самом.
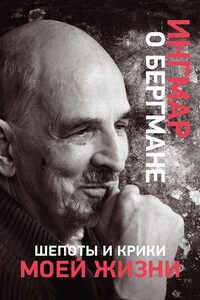
«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
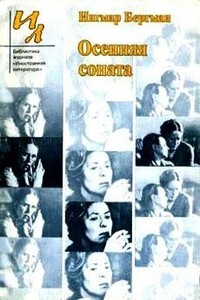
История распада семьи пианистки Шарлотты и двух её дочерей, Евы и Хелен.Шарлота, всемирно известная пианистка, только что потеряла Леонарда – человека, с которым жила многие годы. Потрясенная его смертью и оставшаяся в одиночестве, она принимает приглашение своей дочери Евы и приехать к ней в Норвегию погостить в загородном доме. Там ее ждет неприятный сюрприз: кроме Евы, в доме находится и вторая дочь – Хелен, которую Шарлотта некогда поместила в клинику для душевнобольных. Напряженность между Шарлоттой и Евой возрастает, пока однажды ночью они не решаются высказать друг другу все, что накопилось за долгие годы.
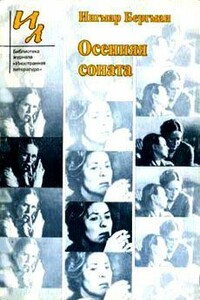
Должен признаться, я верен до конца только одному – фильму, над которым работаю. Что будет (или не будет) потом, для меня не важно и не вызывает ни преувеличенных надежд, ни тревоги. Такая установка добавляет мне сил и уверенности сейчас, в данный момент, ведь я понимаю относительность всех гарантий и потому бесконечно больше ценю мою целостность художника. Следовательно, я считаю: каждый мой фильм – последний.
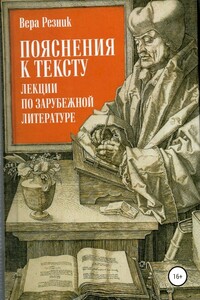
Эта книга воспроизводит курс лекций по истории зарубежной литературы, читавшийся автором на факультете «Истории мировой культуры» в Университете культуры и искусства. В нем автор старается в доступной, но без каких бы то ни было упрощений форме изложить разнообразному кругу учащихся сложные проблемы той культуры, которая по праву именуется элитарной. Приложение содержит лекцию о творчестве Стендаля и статьи, посвященные крупнейшим явлениям испаноязычной культуры. Книга адресована студентам высшей школы и широкому кругу читателей.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.
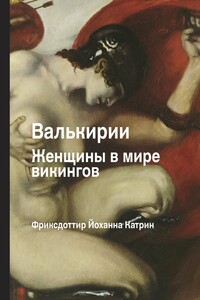
Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.
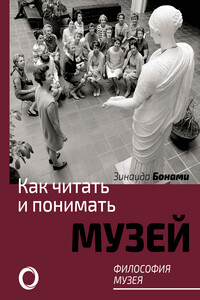
Что такое музей, хорошо известно каждому, но о его происхождении, развитии и, тем более, общественном влиянии осведомлены немногие. Такие темы обычно изучаются специалистами и составляют предмет отдельной науки – музеологии. Однако популярность, разнообразие, постоянный рост числа музеев требуют более глубокого проникновения в эти вопросы в том числе и от зрителей, без сотрудничества с которыми невозможен современный музей. Таков принцип новой музеологии. Способствовать пониманию природы музея, его философии, иными словами, тех общественных идей и отношений, которые формировали и трансформировали его – задача этой книги.
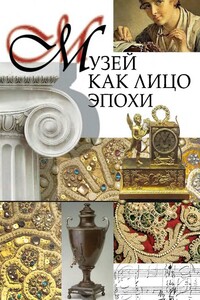
В сборник вошли статьи и интервью, опубликованные в рамках проекта «Музей — как лицо эпохи» в 2017 году, а также статьи по теме проекта, опубликованные в журнале «ЗНАНИЕ — СИЛА» в разные годы, начиная с 1960-х.
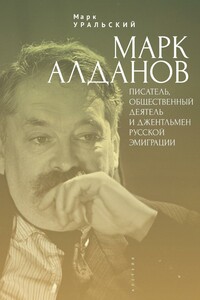
Вниманию читателя предлагается первое подробное жизнеописание Марка Алданова – самого популярного писателя русского Зарубежья, видного общественно-политического деятеля эмиграции «первой волны». Беллетристика Алданова – вершина русского историософского романа ХХ века, а его жизнь – редкий пример духовного благородства, принципиальности и свободомыслия. Книга написана на основании большого числа документальных источников, в том числе ранее неизвестных архивных материалов. Помимо сведений, касающихся непосредственно биографии Алданова, в ней обсуждаются основные мировоззренческие представления Алданова-мыслителя, приводятся систематизированные сведения о рецепции образа писателя его современниками.