Канареечное счастье - [27]
— Полно вам плакаться. Дело, — говорю, — самое обыкновенное. Погибли, и больше ничего.
И вдруг повернулся ко мне господин Чучуев:
— Да неужто не видите, что я от радости плачу?
— Нет, — говорю. — Не вижу. Темно здесь очень.
А сам, конечно, подумал: «Повредился человек окончательно».
— Уж вы мне поверьте, — говорит господин Чучуев. — Потому прозрел я теперь совершенно, хоть и не вижу на правый глаз.
И радостно так воскликнул:
— Революция началась в России и полная свобода личности!
Заплакал я от огорчения. Жалко мне стало его.
«Ведь вот, — думаю, — как повредили». А господин Чучуев возбудился до крайности.
— Прозрел, — говорит, — я теперь. Окончательно прозрел. Еще как в ухо меня ударили, так я прозрел. Потому заметил на солдатике красный бант. И у того, который очки мне разбил, то же самое революционная личность была… Безусловно, началась свободная жизнь.
Изумился я и даже опешил.
— Какая же это свобода? — спрашиваю. — И за что, например, разукрасили нас без причины?
— По ошибке, — говорит господин Чучуев. — Фуражечка нас подвела.
— Как! — кричу, — Из-за фуражки? Из-за подобной финтифлюшки? Какая же в этом свобода?
Словом, разволновался я тогда до последней крайности. Сам же господин Чучуев стал меня убеждать:
— Стоит ли волноваться? Вам же, — говорит, — между прочим, вовсе мало досталось. А я это только так, прихвастнул насчет подбитого глаза. По правде сказать, обоих раскрыть не могу. И ничего. Не жалуюсь.
В это самое время разговора открылась внешняя дверь и фонарик блеснул оттуда. Слышу, зовут:
— Товарищи!
Затаились мы в уголке, потому ясно чувствуем: для продолжения действий зовут наружу. А только вошли в сарай три человека, и тот, что с фонарем, последовал в наш угол. Склонился он над нами, осветил фигуры.
— Простите, — говорит, — товарищи, за революционную ошибку. Рассмотрели мы ваши документики и видим, что задаром разделались. Милости просим в наш комитет.
Вскочил на ноги господин Чучуев. Вижу, просиял лицом и даже вроде бы вдохновился.
— Граждане! — говорит. — Моментально по телефону. Настало время перековать плуги. Всех кузнецов на работу — пускай куют!
И уж не помню, что он еще сказал тогда, а только всех совершенно расстроил. Вынесли его на руках и поставили перед народом. И как было вечернее время заката, очень даже вышла торжественная картина.
— На бочку! — кричат. — На бочку!
Влез господин Чучуев на бочку.
— Товарищи! — говорит.
И прослезился. А из толпы, понятно, волнуются.
— Верно! — говорят. — Правильно!
Вытер господин Чучуев платочком глаза.
— Я, — говорит, — за вас, а вы за меня. И все мы теперь за всех. И каждый за каждого и всякий за всяких. За это самое пострадал я при старом режиме.
Тут уж, скажу, оказали нам полное уважение. Кто на обед стал звать, кто ночлег предлагает. И с этого самого времени уверовал я в передовую идею.
Действительно, думаю, что-то перевернулось.
Вечерком же в Совете, как показали мне сообщение телеграммы, окрылился я совершенно. И потянуло меня скорей в родную обстановку семьи. Стал я предлагать господину Чучуеву:
— Выедем, — говорю, — моментально к месту родительского пребывания. Неужто, — спрашиваю, — не соскучились?
Заволновался господин Чучуев.
— Не поеду, пока всего не выскажу. Я, — говорит, — и так двенадцать лет молчал. И как есть у нас пятьдесят две губернии, так я теперь в каждой буду высказывать.
Смекнул я, что надлежит нам расстаться, и испытал на себе грустное чувство. «Вот она, — думаю, — разлука с друзьями».
И до утра все не мог заснуть: обдумывал прошлую жизнь. Образованность свою припомнил за это время… Физическое развитие насчет природы… То же самое по поводу минералов вспомнилось. Вижу ясно: совсем другим человеком уезжаю. Вот только еще насчет допотопных зверей не закончили. «Что ж, — думаю, — с этим как-нибудь обойдусь».
А все-таки оба мы прослезились, как настало время нашего расставания. Вышел за ворота господин Чучуев (мы тогда у старосты спали). Обнял меня и запечатлел поцелуй.
— Дай вам Бог, и прощайте навеки. Стремитесь, — говорит, — всегда на гору и на всякие возвышенности в жизни.
Заплакал я, понятно, от умиления.
— Учитель! — говорю.
И за ручки его схватил. И сжалось у меня сердце.
Махнул платочком господин Чучуев, свистнул ямщик — и вскорости скрылась за бугром данная деревня.
«Эх! — думаю. — Потерял педагога. Когда-то еще даст Бог свидеться…»
Между тем приближались мы постепенно к городу. Стали пассажиры попадаться на дороге и вообще разная публика. И одна старушонка махонькая чрезвычайно мне напомнила маменьку. Собственно, платочек у нее был на голове такой же, как у маменьки, зеленый с желтыми точками.
— Стой! — сказал я кучеру.
И достал кошелек.
— Нате, — говорю, — вам, бабушка, монету в пять копеек. И помолитесь, бабушка, за в Бозе почившего Симеона и за еще здравствующую Пелагею.
А старушонка эта всполошилась, понятно.
— Подавись, — говорит, — своим пятачком, когда за фунт хлеба полтинник платим. Ишь насмешник какой, чтоб у твоих родичей мозги повылазили!
Вскипятился и я.
— Вы, бабушка, зачем так выражаетесь? На основании каких фактов? Это, — говорю, — неинтеллигентно.
Кучер между тем повернулся ко мне и говорит:
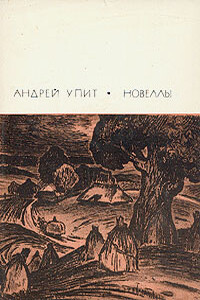
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
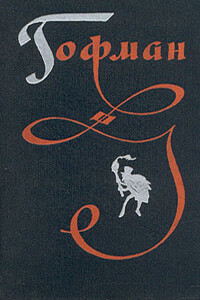
Крупнейший представитель немецкого романтизма XVIII - начала XIX века, Э.Т.А. Гофман внес значительный вклад в искусство. Композитор, дирижер, писатель, он прославился как автор произведений, в которых нашли яркое воплощение созданные им романтические образы, оказавшие влияние на творчество композиторов-романтиков, в частности Р. Шумана. Как известно, писатель страдал от тяжелого недуга, паралича обеих ног. Новелла "Угловое окно" глубоко автобиографична — в ней рассказывается о молодом человеке, также лишившемся возможности передвигаться и вынужденного наблюдать жизнь через это самое угловое окно...
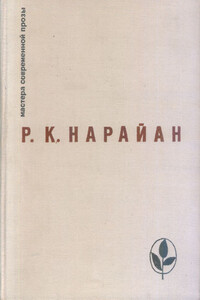
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.

«Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otteǿjede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И о среднестатистическом гражданине, который не умеет и не желает ни замечать все эти противоречия, ни критически мыслить, ни протестовать — до тех самых пор, пока ему самому не придется непосредственно столкнуться с произволом властей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.