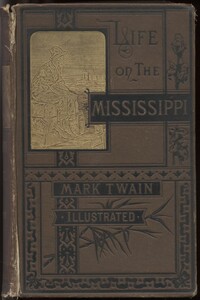Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы - [111]
— Забывать мертвых, — говорила она, — равносильно убийству, ведь этим мы их уничтожаем.
Потому-то и хранила она такое бесчисленное множество портретов, массу книг, стараясь собрать вокруг себя целое воинство призраков, — не в переносном смысле, а реально существующих призраков, если верить ее словам. Я, конечно, поначалу не принимал это всерьез, но постепенно и сам почувствовал, что дом наш наполняется призраками… Ну да я не о том хотел — наговорил тут с три короба. Конечно, мысли мои сейчас крутятся только вокруг этого. Собственно, о Гастоне я еще ничего толком не сказал: он был под стать ей — конечно, тут же и внешнее сходство — потому они так и любили друг друга… Вы уже знаете, что Гастон был младшим братом моей жены. Жюльетт сама с ним занималась, мы поначалу и в школу его не отдавали. Так вот я и говорю, Гастон во всем походил на нее: тоже все время с книгой да с книгой; окликнешь его, бывало, так он даже не поймет, в чем дело — будто и не от мира сего. Точно как жена, которая, едва отобедав, с улыбкой поднималась и говорила:
— Меня ждет дух Платона, — и уходила к греческому философу.
Иногда мне казалось, будто ее и в самом деле ожидают духи — ужасные, капризные духи — как бы это выразиться? — паразиты, знаете, наподобие омелы, расцветающей на молодых деревьях; в головах живущих разбивают они шатры своей жизни — жизни мертвых.
Впрочем, ближе к делу; конечно, Гастон был впечатлительным мальчиком — но что это объясняет? Наверно, следовало бы сказать, что он наделен характером «борца за свободу»… Однако может ли быть героем такой ребенок? Тогда он уже ходил в гимназию и, конечно, считался лучшим учеником, даже учителям нос утирал — видели бы вы его в такие минуты! Вот в этом как раз все дело: и учитель у него — не учитель, и школа — не школа, а император и государство — и, конечно же, государство тираническое — «слепой произвол власти»; а если знания учителя недостаточны — тут уж несправедливость налицо; да еще разговоры о чести, доблести — откуда что взялось? Видели бы вы его после какой-нибудь мелкой неудачи, или, скажем, если, по его мнению, с ним поступили несправедливо — в какой черной меланхолии он пребывал целыми днями! Для него это были великие дела и великая борьба: «борьба интеллигенции против узколобой власти» — откуда такое? Можете смеяться надо мной, но тут замешаны покойники. Например, Сократ… Однажды он рассказывал мне о Сократе: тот выпил яд, чтобы ни на минуту не уронить своего достоинства перед глупыми судьями!
— Тех судей все давно забыли, о Сократе же знает каждый! — сказал он.
Если бы вы видели, как сияли при этом его глаза, прямо как звезды. А ведь он был еще совсем ребенок. В ту минуту в нем говорил Сократ. Что за книги у нас дают детям: куда ни глянь — сплошные «герои», сплошные «мученики», и «разум в конечном счете торжествует», и «рано или поздно побеждает истина», а ведь на самом деле все совсем не так! Эти глупые мертвецы, которые при жизни пытались прошибить лбами стену, теперь овладели головой такого вот легковерного ребенка и ею тоже колотят о стену. Постойте-ка, я расскажу вам случай с учителем истории. Этот учитель был «почитателем авторитетов», за что его и невзлюбил Гастон, отзывавшийся о нем так:
— Ничего-то он не знает, а потому у него только даты да общие места. И еще хочет доказать, что «история не сборник небылиц» и что и по его предмету можно провалиться.
Гастон не любил историю, называл ее «тирановедением». Да и от Жюльетт не раз слышал:
— Почему вам преподают не историю культуры? Аристотель был более великим человеком, чем его воспитанник Александр Македонский, — в тот раз она, наверное, впервые упомянула об Александре Македонском.
И сама идея, что у поэтов и ученых посмертная жизнь гораздо продолжительнее, чем у тиранов, ибо после них остаются мысли, была целиком в духе Жюльетт.
Ну да я насчет истории… Мальчик все ругался, что, мол, это сплошная зубрежка да пустословие:
— Латынь, арифметика — там, если понимаешь, то и оценку получишь хорошую. А здесь все зависит от глупого вопроса.
Как-то однажды является домой возбужденный:
— Ну и ответил же я ему!
Оказывается, учитель спросил у одного несчастного мальчишки, на которого имел зуб, нечто несуразное, вроде: «Что последовало за тем-то и тем-то?», и требовалось ответить: «последовал период всеобщего упадка». Ну как тут догадаешься? Тогда Гастон не выдержал, встал и сказал об этом учителю, чем привел его в ярость.
— А ты не боишься, что он тебя накажет? — поинтересовался, я, удивляясь смелости обычно робкого мальчика.
Но вы бы только посмотрели на него!
— Я?! — так и полыхнули снова огнем его глаза. В нем опять говорил Сократ — ибо он уже был не он, — в нем говорили призраки, паразиты, которые вызревали в ребенке, как бурьян на пашне, и заставляли его думать, говорить, действовать так, как им было угодно.
Играли с податливой душой.
Почему я вдруг замолчал? Да потому что сейчас пойдет речь об Александре Великом, царе македонском, который уже стар и ревнив, — не подумайте, что я заговариваюсь! Предположим, например, будто я умер и кто-то меня возродил к жизни: одним словом, единственной мыслью, словно зажег в темноте спичку. Если никто обо мне не подумал, — значит, я умер; но уж если зажгли эту спичку… Например, Гастон учил об Александре Македонском; потом еще Жюльетт говорит, — только потому, что любит говорить о прочитанном, — каким позером был этот самодержец: скажем, Фивы разрушил, а дом поэта Пиндара пощадил, или еще книги Гомера возил в золотом ящичке с собой в сраженья — в общем, корчил из себя просвещенного монарха; так вот все эти рассуждения разве не равносильны тому, как если бы мы приподняли над покойником крышку гроба? Или речь заходит об Аристотеле, и тут вспоминают, что он воспитывал Александра, что Филипп приблизил его к себе и что этот парвеню — выдающийся ученый эпохи; и Гастон смеется:
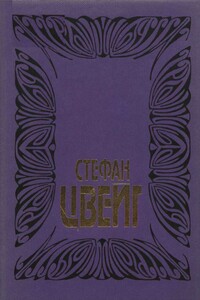
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В второй том вошли новеллы под названием «Незримая коллекция», легенды, исторические миниатюры «Роковые мгновения» и «Звездные часы человечества».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

„А. В. Амфитеатров ярко талантлив, много на своем веку видел и между прочими достоинствами обладает одним превосходным и редким, как белый ворон среди черных, достоинством— великолепным русским языком, богатым, сочным, своеобычным, но в то же время без выверток и щегольства… Это настоящий писатель, отмеченный при рождении поцелуем Аполлона в уста". „Русское Слово" 20. XI. 1910. А. А. ИЗМАЙЛОВ. «Он и романист, и публицист, и историк, и драматург, и лингвист, и этнограф, и историк искусства и литературы, нашей и мировой, — он энциклопедист-писатель, он русский писатель широкого размаха, большой писатель, неуёмный русский талант — характер, тратящийся порой без меры». И.С.ШМЕЛЁВ От составителя Произведения "Виктория Павловна" и "Дочь Виктории Павловны" упоминаются во всех библиографиях и биографиях А.В.Амфитеатрова, но после 1917 г.