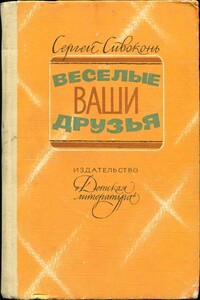Как читать романы как профессор. Изящное исследование самой популярной литературной формы - [90]
И не думаю, что Диккенс в этом виноват. Виноват Бог. А конкретно – Бог, созданный викторианцами под себя, не допускавший всяких глупостей, вершивший справедливый суд и воздававший каждому по заслугам (никаких полумер в виде чистилища – либо вечное блаженство, либо вечные муки), очень суровый в своих требованиях, хотя бы в том, что вдовы должны носить траур полвека, не меньше, но все-таки справедливый и милосердный, пусть и взыскательный. Добро и зло получали то, что предназначал им этот Бог. Видимо, Диккенс даже не замечал иронию ситуации: любящий и справедливый для всех Бог повергает всех работающих людей в самую ужасающую нищету, но… ладно. «Дэвид Копперфильд» всего лишь появился на свет слишком рано, чтобы поверить в такого Бога. Смерть красивой молодой свояченицы и крах его собственного брака пробуждает в Диккенсе целую кучу теологических вопросов. И сразу же, со скоростью сериального убийцы, он начинает истреблять «молодых, хороших, красивых» героинь. Агнес даже не представляет, как ей повезло оказаться именно в этой книге, а не в нескольких последующих. Но, правду сказать, концовки мало что меняют; нам просто выдают их, как аккуратно упакованный сверток: получите, распишитесь.
Теперь приведу несколько возражений против викторианских концовок как ученый и просто как читатель (последние так и останутся читательскими). Для начала замечу – и это достаточно весомый довод, – что в жизни все совсем не так. Романы, кроме тех, что написаны в духе Харди, заканчиваются, как будто все жизненные вопросы успешно разрешены, даже если героям предстоит прожить еще не один десяток лет. Все равно что, после того как лошади на скачках пробежали восемьсот метров, утверждать, что забег на один километр закончен. А ведь в последние двести метров может случиться множество интересного. Именно тогда люди вскакивают с мест и начинают пристально всматриваться. Но почему-то вся история уже закончилась к восьмисотому метру, или к семисотому, или даже в самой середине. А так как многие романы не только начинаются, но и заканчиваются в середине жизненного пути, идеальные, счастливые концы кажутся несколько претенциозными. Заметнее (и хуже) всего эта тенденция в романе воспитания, романе о детстве и юности, который, как правило, заканчивается, когда герою исполняется двадцать четыре года или около того. Лучшее, что может сказать роман воспитания, это то, что герой гораздо менее неопытен (несведущ, неосознанно жесток, наивен, далее по списку…), чем раньше. Но часто они успевают натворить немало плохого; так, «Дэвид Копперфильд» или «Большие надежды» предлагают нам целый букет того, что герой успел сделать к этому возрасту. Господи ты боже мой! Большинство из нас к двадцати четырем годам только еще начинают соображать, что к чему, еще набьют немало шишек. Строго говоря, в реальном мире концовка лишь одна, и не слишком опрятная. Со смертью ничего не заканчивается: еще предстоит выплатить налоги на недвижимость, официально утвердить завещание, уладить споры между родственниками, по-разному интерпретировать жизнь покойного. Когда Оден говорит, что после смерти Йейтса «вспыхнули его поклонники», он не имеет в виду, что между поклонниками царило единогласие. У самого Одена было не меньше двух мнений. При консервативной оценке. Святые, храните нас от несвоевременно окончательной концовки.
Но есть у меня и второй аргумент, менее сильный. Мои претензии по большей части эстетического порядка: излишняя опрятность губит книгу. Мы читаем себе и читаем, следим за прихотливыми извивами сюжета, в котором, кажется, возможно все, но главы за две до конца откуда ни возьмись появляется инженерный взвод, выкапывает ровную, как по линейке, траншею и заливает ее бетоном. Так мы, конечно, быстрее доберемся в пункт назначения, но путешествие не станет от этого приятнее. Скорее уж наоборот. Бог явился из машины и немало поработал. В греческой драме, если автор окончательно запутывался в сюжете, он иногда опускал бога на сцену на каком-то устройстве вроде подъемного крана (по-гречески mechane, а по-латыни, откуда идет это выражение, machina), чтобы он защитил или, наоборот, покарал и двинул действие дальше, к великой радости драматурга. Загвоздка здесь одна: такое решение ничем не оправдано, ни сюжет, ни герои нас к нему не подводят. Другими словами, дурят нашего брата. Не обязательно верить на слово мне; со времен Аристотеля критики и теоретики считали такие приемчики нечестными, обесценивающими всю работу. Мало того, в случае романа действует фактор умножения. Чем более хитроумно вы сплетаете сюжет, тем более очевидно натянутым получается повествование. Искусственность прямо вопиет в викторианском романе; изо всех сил он старается ее скрыть, но в последних главах она все-таки выпирает, и притом весьма неуклюже. Если бы постмодернистские произведения постоянно тыкали нас носом в то, что они искусственные, ненастоящие, мы удивились бы меньше. Но они-то как раз наименее вероятные кандидаты в нарушители элементарных приличий и не подсовывают нам концовки, заправленные аккуратно, как больничная кровать.

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и переосмыслениях.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
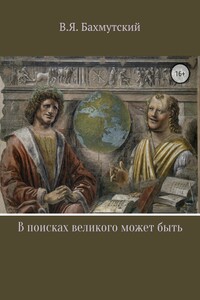
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.