Кафа - [17]
— Как в песне, — рассмеялся Иван. — «Наши с нашими воюют, чехи сахаром торгуют». К заварухе мы не готовы. Да и момент не тот. Кто не слышал вчера музыку с воинского пункта. Пришел отдельный атаманский батальон Аламбекова. Головорез на головорезе.
— Но и ушел эшелон чехов, — заметил с улыбкой Чаныгин.
— Разные это вещи, Степан, — возразил товарищ из губернии и стал разъяснять позицию ЦК в вопросе о восстаниях: главное пока — организация мощного партизанского движения. Час же восстания в городах еще не пробил.
В сенцах что-то задвигалось.
Чаныгин глянул на дверь и спросил:
— Что это, дождь на улице?
В дверях — новое лицо.
Мокро поблескивает черная кожаная куртка. Руки вошедшего в косых нагрудных карманах.
— Ливень. И еще одна напасть: на разъезде разгружаются казаки.
— Куда их дорога?
— Сюда, похоже. Могут, конечно, и проскакать через заимку.
— Самый момэнт сматывацца, — сказал тот, кого Данилка называл черкесом.
Он неторопливо обошел человека в кожане, открыл за его спиной дверь, и зубы его засияли в улыбке.
— Трэтий дэнь жду дарагих гастэй.
И, подняв руку, пропал в темени.
Вслед за ним вышел его ординарец. И почти сразу же кони высеяли за окнами напряженную нервную дробь.
Чаныгин переступил с ноги на ногу.
— Будем расходиться, — сказал он, — каждый берет с собой то, с чем пришел. На полу — ни окурка, ни спички. Тут нас не было. Цыганку́ забить дверь. Пошли.
После дождя посветлело.
По-видимому, в птичьем мире тоже есть свой Мойша. Ударив смычком, он слушает, как звенит, падая на воду, серебряное колечко, потом смычок бьет еще раз, и новое колечко звенит, падает и тонет. Двое под серо-черным косматым небом, наскоро размалеванным голландской сажей, говорят тихо, чтобы не мешать Мойше из птичьего мира, а когда тот вешает свою скрипчонку на гвоздь, сталкивают на воду легкий шитик, и тогда собака принимается крутиться у их ног, поскуливать и вертеть хвостом.
— Значит, решили, — говорит Пахомов, — завтра я встречаюсь с Годлевским и подкупаю его. Стоить он будет недешево. Но продается сей пан безотказно.
— А где встреча?
— У хироманта Никодимова.
— А не явится он туда с казаками?
— Мог бы, конечно. Но ведь за меня он ничего не получит. Тогда как за Кафу, за ее побег... Звон бренного металла... Пока, дружище.
Ночь перешла испятнанную огнями железнодорожную насыпь и вот уже плывет к океану в своем извечном бесшумном и торжественном марше.
Петухи кричат ей вдогонку сердито и сонно.
Поручик Мышецкий сидит у стола в одной нижней рубашке. Рука с дымящейся папироской подпирает голову.
Зеленая лампа, зеленое сукно.
И чистый лист.
«Великий Савва хлопочет за Кафу... Что это?» — спрашивает перо и, помедлив, снова тащит за собой фиолетовую ниточку.
«Слепая отвлеченная жалость? Сострадание к молодости, которая гибнет? Тогда что же его тронуло в этой девчонке? Отчаянность, показное бесстрашие, язык улицы? «Поворотец, дай боже», «Старый ишак». Или то, что увидит каждый художник: глаза, живописные линии натурщицы? Савва не обольшевичился, конечно. Но он так глубоко забился в свое дремотное вегетарианское искусство, что не видит трагедии белого и красного. И место свое определяет не разумом, а чувством.
Предательство доброты! Подобно Касперу Хаузеру[7], он беспомощно бредет в неведомом для него мире. Он и не думает, конечно, что прощение Кафы стало бы в каком-то смысле и признанием ее идей, салютом красному движению».
Мышецкий поднимается.
На отдельном столике горит толстая свечка темного воска. Этот второй огонь в комнате — причуда хозяина. Он убежден, что запах оплывшего горячего воска, легкий треск фитиля, длинное напряженное пламя, да и печать старины — свеча не литая, а катаная — все это возбуждает и обостряет чувства и мысли. Лучше думается. И оттого, принимаясь за дневник, он всякий раз зажигает свечу.
Щелкнули щипчики.
Отделив вершинку фитиля, Мышецкий погружается у окна в гнутую венскую качалку — устало, глубоко, низко.
Нельзя зажигать сразу три свечи, думает он, это к смерти. А если чья-то смерть нравственна? Нет, быть нравственной она не может. Но ведь может быть необходимой, смерть против смерти. В армейской группе Вержбицкого три свечи зажигают над смертным приговором. Если, вернувшись из совещательной, главный судья нашаривает в карманах зажигалку, в зале пропадают все звуки. Общий свет погашен, и над руками председателя, над листом приговора — зловещий трезубец, три языка пламени на чугунной ноге. Что это? Дешевая игра в ужасы? Шарлатанство и мистика? Беззаконие? Все стало другим, и я уже спрашиваю по-другому: разве это не присяга защищать жизнь, дыхание ребенка, разве это не гимн яви живой? Нет, конечно, нет! Ты встаешь в позу, ты нечестен перед собой, Глеб!
Вытянув далеко вперед прямые в коленях ноги, Мышецкий ищет папироской стоящую на подоконнике пепельницу.
Он учил меня смешивать краски, думает Мышецкий. Я смешивал краски и каждое его слово, улыбку, жест воспринимал, как откровение и озарение. «Когда себя сравню я с богом, мой гений молнией сверкнет». Эти слова за него и для него я писал не дыша, как молитву, он был для меня воплощением гения, который все знает и все может. Но вот он в роли просящего: «Отставьте смертную казнь, Глеб!». И я вижу: он ничего не знает. Неведение в главном делает его слепым. Милостивый государь, Савва Андреич, разве ваше (как и мое) воображение может представить косаря, который поднял бы над лугом им же скошенную траву? Я не маг. Я только кошу, не больше. Да и захочет ли человек, бездумно преданный России, простить Кафу, фанатичку, от чужой, враждебной веры? Впрочем, есть. Это господин Глотов. Уже в ночь процесса он приказал оставить открытой дверцу тюремной кареты. Кафа оказалась тет-а-тет со свободой, но заподозрила козни, и благоразумие вернуло ее за решетку. О, этот господин Ххо. Подстраивая побег при обстоятельствах загадочных, невероятных, а потому и в высшей степени коварных, господин прокурор засылает к большевикам микроб подозрительности, клетку рака. Свои же обвинят Кафу в измене, и свои же казнят ее. А сыщики, будто при вспышке магния, увидят все гнездо, и тогда разор и кара не пощадят ни одного красного. Мне неприятна эта уловка, от нее попахивает краплеными картами шулера, но если уж говорить начистоту, только такое освобождение и мыслимо для Кафы.
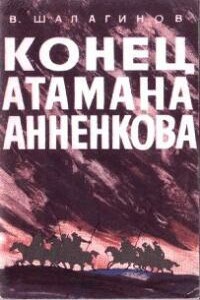
Семипалатинск. Лето 1927 года. Заседание Военной Коллегии Верховного суда СССР. На скамье подсудимых - двое: белоказачий атаман Анненков, получивший от Колчака чин генерала, и начальник его штаба Денисов. Из показаний свидетелей встает страшная картина чудовищного произвола колчаковщины, белого террора над населением Сибири. Суд над атаманом перерастает в суд над атаманщиной - кровным детищем колчаковщины, выпестованным империалистами Антанты и США. Судят всю контрреволюцию. И судьи - не только те, кто сидит за судейским столом, но и весь зал, весь народ, вся страна обвиняют тысячи замученных, погребенных в песках, порубанных и расстрелянных в Карагаче - городе, которого не было.
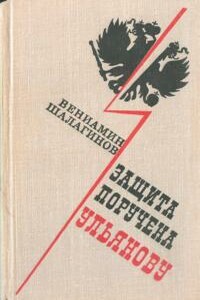
Книга Вениамина Шалагинова посвящена Ленину-адвокату. Писатель исследует именно эту сторону биографии Ильича. В основе книги - 18 подлинных дел, по которым Ленин выступал в 1892 - 1893 годах в Самарском окружном суде, защищая обездоленных тружеников. Глубина исследования, взволнованность повествования - вот чем подкупает книга о Ленине-юристе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Валентин Петрович Катаев (1897—1986) – русский советский писатель, драматург, поэт. Признанный классик современной отечественной литературы. В его писательском багаже произведения самых различных жанров – от прекрасных и мудрых детских сказок до мемуаров и литературоведческих статей. Особенную популярность среди российских читателей завоевали произведения В. П. Катаева для детей. Написанная в годы войны повесть «Сын полка» получила Сталинскую премию. Многие его произведения были экранизированы и стали классикой отечественного киноискусства.

Книга писателя-сибиряка Льва Черепанова рассказывает об одном экспериментальном рейсе рыболовецкого экипажа от Находки до прибрежий Аляски.Роман привлекает жизненно правдивым материалом, остротой поставленных проблем.

В книгу известного грузинского писателя Арчила Сулакаури вошли цикл «Чугуретские рассказы» и роман «Белый конь». В рассказах автор повествует об одном из колоритнейших уголков Тбилиси, Чугурети, о людях этого уголка, о взаимосвязях традиционного и нового в их жизни.

Сергей Федорович Буданцев (1896—1940) — известный русский советский писатель, творчество которого высоко оценивал М. Горький. Участник революционных событий и гражданской войны, Буданцев стал известен благодаря роману «Мятеж» (позднее названному «Командарм»), посвященному эсеровскому мятежу в Астрахани. Вслед за этим выходит роман «Саранча» — о выборе пути агрономом-энтомологом, поставленным перед необходимостью определить: с кем ты? Со стяжателями, грабящими народное добро, а значит — с врагами Советской власти, или с большевиком Эффендиевым, разоблачившим шайку скрытых врагов, свивших гнездо на пограничном хлопкоочистительном пункте.Произведения Буданцева написаны в реалистической манере, автор ярко живописует детали быта, крупным планом изображая события революции и гражданской войны, социалистического строительства.
