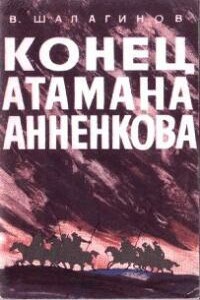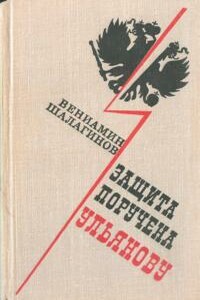— А этой бороды тогда не было, — сказал он.
— Была, — возразил человек в дорогой шубе. — Была от рожденья.
И рассмеялся.
Он как бы сказал: я шучу, конечно. Бороды у меня тогда действительно не было. Мы так хорошо знаем друг друга, что утверждать обратное было бы смешно и глупо.
— Значит, вы стали красным? — спросил он партизана.
— Не стал, а был. Был всегда. От рожденья.
— И у Гикаева?
— И у Гикаева.
— А ваш чин? — Человек в дорогой шубе потыкал себя сигарой в плечо. — Липа? Вы никогда не были штаб-ротмистром? И вы не пан Годлевский? У, какой вы притворщик! А я ведь догадывался, но щадил вас, щадил, слышите? Может, это зачтется? О, как сурово! Между прочим, я мог бы принести красным большую пользу.
— Сначала отчитайтесь за большой вред.
— Большого я как-то не вижу... А вот для ответа я выйду с открытым забралом. Теперь позвольте один вопрос, если, разумеется, это не заденет предписанной вам тайны. Кто ваша предводительша?
— Кафа.
— Это в прошлом, я понимаю. А сейчас, вон та, в импозантной белой папахе?
— Кафа, господин Глотов. Сестра Батышевой. Младшая сестра, принявшая партийную кличку старшей.
— Да?
Серебряные ножнички сделали несколько холостых щелчков и замерли. Глотов ссутулился, сунул сигару в жилетный карман и стал поднимать воротник. Пленных выводили на улицу.
Шел рабочий отряд по земле, по своей, по израненной, а где-то за лесом бежал паровоз, стучал своим железным сердцем и славил человека и солнце.
Светало над снегами, над Россией.
Работа ждала труженика.