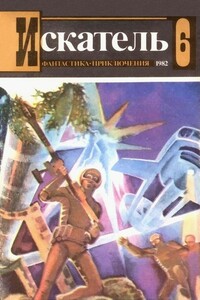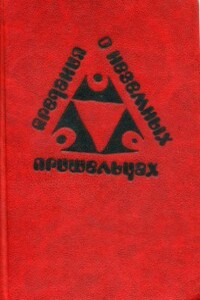Прихрамывая и задыхаясь, вскрикивая от боли, Гоша побежал к железнодорожному полотну.
Я ехал после работы домой. Один, без Кости. Он неделю назад получил квартиру и теперь во время перекуров говорил только о своём Тополе. Какой это, мол, перспективный район, сколько там зелени, как удобно ездить к институту… О Гоше он вспомнил только раз:
— Ну, как там твой предтеча?
— Какой предтеча? — не понял я.
— Ну, Псих. Ты же сам его так называл. Предтечей. Человеком из будущего.
— Не знаю, не встречал.
— Жаль, что мы не специалисты, — сказал Костя. — Ведь он феномен. И, заметь, таким его сделала беда. Ещё Боуви писал: «Бедствие подобно кузнечному молоту: сокрушая, куёт».
Теперь этот разговор вспомнился — к чему и сам не знаю. Может, из духа противоречия. В самом деле — почему доброе и возвышенное в нас должна проявлять именно беда? Надо ли пережить жизненный крах, чтобы стать другим? Может, человека так же преображает радость или, например, настойчивое желание стать другим? Целая куча вопросов, а ответы на них… Ищи в чистом поле. Вот Костя три комнаты получил, счастлив. Стал ли он от этого другим, лучше? Очень я сомневаюсь. И в себе сомневаюсь, ещё больше… Что, что может изменить меня, сделать лучше?
Я, кажется, задремал. А проснулся от того, что какая-то грубая сила вдруг сорвала меня с лавки и швырнула к дремавшей напротив старушке. На меня тоже кто-то упал. Скрежетали тормоза, шипел под вагоном сжатый воздух. Покрывая шум и ругань, испуганный детский плач, пронзительно и страшно закричал электровоз.
«Сорвали стоп-кран», — мелькнула первая мысль. Но в следующий момент, выбираясь из кучи тел, я понял: тормозил машинист. Экстренно, на всю, как говорят, катушку.
— Человек на рельсах, — сказал молоденький солдат, высунувшись в открытое окно. — Как раз на повороте.
Поезд остановился. Люди выскакивали из вагонов, бежали к электровозу. Я тоже решил посмотреть — что там случилось.
Он лежал на насыпи, метрах в четырёх от электровоза. Рядом валялся полиэтиленовый мешок с травой, растоптанные соцветья зверобоя.
Я не понял — мёртвый он или только без сознания. Поразила его тщедушность. Гоша казался подростком. Маленький, худущий, какой-то нескладный.
«На за свои чудеса он сжигает все запасы АТФ, — неведомо почему всплыла вдруг в памяти фраза Кости. — Этого универсального аккумулятора энергии в организме не так уж много. Он сжигает себя…»
Затем я глянул на руки Гоши — и всё понял. И ужаснулся.
Руки его — чёрные и несуразно большие — вцепились в лопнувший рельс, будто старались его соединить. Впрочем, трещины уже не было! На месте разлома багрово сиял свежий шов, и нельзя было понять — то ли дымится раскалённый металл, то ли дымятся полуобугленные Гошины руки…
Я ступил ближе к пострадавшему, и меня самого пронзила внезапная боль. Значит, он жив! Это его боль разлита вокруг, будто чёрная тяжёлая вода. Так по крайней мере мне показалось.
Ни тогда, ни теперь я не выдумывал никаких наукообразных теорий и объяснений, не задавался вопросами. Только иногда вдруг приходит ко мне непонятное волнение и заставляет спрашивать самого себя:
— Как он это смог?
При этом я чувствую и тайную гордость за человека, и непреходящую тоску о его — моем, вашем, всех! — несовершенстве.
И ещё. С некоторых пор я возненавидел очереди, особенно молчащие. Я обхожу их теперь за три квартала. Потому что вместо толпы чужих и не всегда добрых людей всякий раз вижу Гошу — маленький, худенький, идёт по битому стеклу и улыбается, как та душа, о которой слышал стихи:
Она и мучила себя,
И истязала,
Но вместо близкого конца —
Всё вырастала!
Могла бы с телом в мире жить,
Знать сладость хлеба,
Но тесно ей на всей земле,
И мало — неба!