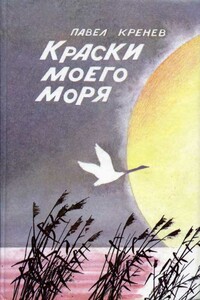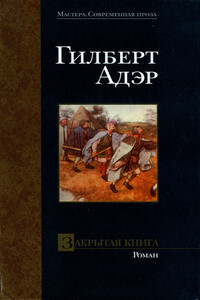— Прямо не знаю, что и почитать, — сказал сервант. — У меня много философской лирики — циклы верлибров, лимерики, танки…
— Почитайте нам что-нибудь из философской лирики, — предложил лоцман Кацман, глотнув мадеры.
Сервант поклонился:
Остров есть на окияне,
А кругом — вода.
Пальмы стройными киями,
Тигры, овода.
Я хочу на остров дольный
Топоров послать,
Палем блеск пирамидальный
Дабы порубать.
Чтоб горели топорами
Яхонты селитр,
Открывая штопорами
Керосину литр.
Чтобы штопором топорить
Окаянный мир,
Чтобы штормом откупорить
Океанный жир!
— Ну, это же совсем неплохо! — воскликнул Суер, похлопывая серванта по плечу. — Какая рифма: «тигры — овода»! А как топоры горели?! Мне даже очень понравилось.
— А мне так про керосину литр, — встрял неожиданно Чугайло. — Только не пойму, почему керосину. Напишите лучше «самогону литр»!
— А мне так очень много философии послышалось в слове «селитра», — сказал лоцман. — И в штопоре такая глубокая, я бы даже сказал, спиральная философия, ведь не только искусство, но и история человека развивается по спирали. Неплохо, очень неплохо.
— Может быть, и неплохо, — скептически прищурился Калий Оротат, — но разве гениально? Не очень гениально, не очень. А если и гениально, то как-то пониженно, вы чувствуете? В этом-то вся загвоздка. Все наши ребята пишут неплохо и даже порой гениально, но… но… как-то пониженно, вот что обидно.
— Перестаньте сокрушаться, Калий, — улыбнулся капитан. — Гениальность, даже и пониженная, всё-таки гениальность. Радоваться надо. Почитайте теперь вы, а мы оценим вашу гениальность.
— Извольте слушать, — поклонился поэт.
Ты не бойся, но знай:
В этой грустной судьбе
На корявых обкусанных лапах
Приближаются сзади и сбоку к тебе
Зависть, Злоба, Запах.
Напряжённое сердце держи и молчи,
Но готовься, посматривай в оба.
Зарождаются днем, дозревают в ночи
Зависть, Запах, Злоба.
Нержавеющий кольт между тем заряжай.
Но держи под подушкой покаместь.
Видишь Запах — по Злобе, не целясь, стреляй,
Попадёшь обязательно в Зависть.
Не убьёшь, но — стреляй!
Не удушишь — души!
Не горюй и под крышкою гроба.
Поползут по следам твоей грустной души
Зависть, Запах, Злоба.
— Бог мой! — сказал Суер, прижимая поэта к груди. — Калий! Это — гениально!
— Вы думаете? — смутился Оротат.
— Чувствую! — воскликнул Суер. — Ведь всегда было «ЗЗЖ», а вы создали три «3». Потрясающе! «Зависть, Злоба, Жадность» — вот о чём писали великие гуманисты, а вы нашли самое ёмкое — «Запах»! Какие пласты мысли, образа, чувства!
— Да-да, — поддержал капитана лоцман Кацман. — Гениально!
— А не пониженно ли? — жалобно спрашивал поэт.
— Повышенно! — орал Чугайло. — Всё хреновина! Повышенно, Колька! Молоток! Не бзди горохом!
— Эх, — вздыхал поэт, — я понимаю, вы — добрые люди, хотите меня поддержать, но я и сам чувствую… пониженно. Всё-таки пониженно. Обидно ужасно. Обидно. А ничего поделать не могу. Что ни напишу — вроде бы гениально, а после чувствую: пониженно, пониженно. Ужасные муки, капитан.
Между прочим, пока Калий читал и жаловался, я заметил, что из толпы туземных поэтов всё время то вычленялись, то вчленивались обратно какие-то пятнистые собакоиды, напоминающие гиенопардов.
— Это они, — прошептал вдруг Калий Оротат, хватая за рукав нашего капитана, — это они, три ужасные «Зэ», они постоянно овеществляются, верней, оживотновляются, становятся собакоидами и гиенопардами. Постоянно терзают меня. Вот почему я всё время ношу подушку.
Тут первый собакоид — чёрный с красными и жёлтыми звёздами на боках — бросился к поэту, хотел схватить за горло, но Калий выхватил из-под подушки кольт и расстрелял монстра тремя выстрелами.
Другой псопард — жёлтый с чёрными и красными звёздами — подкрался к нашему капитану, но боцман схватил верп и одним ударом размозжил плоскую балду с зубами.
Красный гиенопёс — с чёрными и жёлтыми звёздами — подскакал к Пахомычу и, как шприц, впился в чугунную ляжку старпома.
Она оказалась настолько тверда, что морда-игла обломилась, а старпом схватил поганую шавку за хвост и швырнул её куда-то в полуподвалы.
— Беспокоюсь, сэр, — наклонился старпом к капитану, — как бы в этих местах наша собственная гениальность не понизилась. Не пора ли на «Лавра»?
— Прощайте, Калий! — сказал капитан, обнимая поэта. — И поверьте мне: гениальность, даже пониженная, всегда всё-таки лучше повышенной бездарности.
Боцман Чугайло схватил якорь, все мы уцепились за цепь, и боцман вместе с самим собою и с нами метнул верп обратно на «Лавра».
Сверху, с гребня полудевятого вала, мы бросили прощальный взор свой на остров пониженной гениальности.
Там, далеко внизу, по улицам и переулкам метался Калий Оротат, а за ним гнались вновь ожившие пятнистые собакоиды.