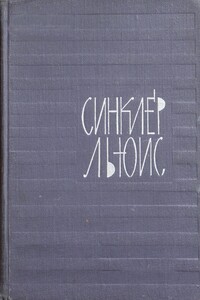Избранное. Том I-II. Религия, культура, литература - [265]
Примечательна полемика Элиота с немецким социологом Карлом Манхеймом, в 1933 г. эмигрировавшим в Великобританию, где он стал профессором Лондонской школы экономики. В отличие от Манхейма, считавшего идею "класса" иллюзорной, демагогической, а неизбежным существование "элит", и в условиях "массового общества" видевшего во внеклассовой интеллигенции гаранта сохранности демократии и культуры, Элиот убежден: что для сохранения культуры необходимо существование классов, в том числе и "высшего класса", иначе нарушается система преемственности, продолжаемости культуры. Оценивая элиты как профессиональные группы, он сознавал преимущества "элитарного общества", ориентированного на ранний профессиональный отбор и воспитание, но в видел в такой культивируемой элитарности — угрозу для культуры как естественной, исторически, веками формирующейся "традиции". Он находил слабое утешение в надежде на то, что общество будущего предложит смесь элитарности и классовых различий, основанных на сохранении интересов института семьи как основы общества.
Довольно неожиданно суждения "консерватора" Элиота о неблаготворном воздействии исчезновения высшего класса на культуру одобрил "социалист" Джордж Оруэлл в рецензии на "Заметки к определению понятия "культура""[941]. Разделяя негативное отношение Элиота к элитам К. Манхейма, Оруэлл счел оправданными сомнения Элиота в способностях и возможностях элит быть такими же хранителями и передатчиками культуры, как социальные группы, классы — в прошлом. Оруэлл даже упрекнул Элиота в недостаточно острой критике "элит" и, видимо, имея в виду советский вариант "коммунизма", заметил, что общество, руководимое элитами, "может очень быстро закостенеть", ибо члены элит склонны избирать своими последователями себе подобных[942].
Позиция Элиота сохранительная: он хочет уберечь все особенности европейского общества, способствовавшие, на его взгляд, существованию, а порой и расцвету культуры: семья, классовая структура, профессиональные элиты, региональное деление и т. д. Как и прежде, он защищает идею многостепенно расчлененного общества, в котором каждый человек наследует свою меру ответственности по отношению к государству и обществу, соответственно положению в нем, при этом у каждого класса, каждой социальной группы свои обязательства. Он понимал, что классовая система несправедлива, однако идею всеобщего равенства считал утопической и, кроме того, таящей в себе опасность всеобщей безответственности. Так же и идею демократии, основанную на всеобщей равной ответственности, он расценивал как гнет "для добросовестных людей и распущенность для всех остальных". Более того, он был убежден, что культура и всеобщее равенство противоречат друг другу. В конфликте, напряжении, существующем между различными компонентами общества и культуры (между религией, политикой, классами, профессиями, регионами и т. д.), Элиот видел стимул для творчества и развития, при условии ненарушения единства, составляющего основу многообразия культуры. Таким образом, культура или традиция требует равновесия бессознательного и осознанного, единства и плюрализма с тем, чтобы сохранять желаемое равновесие эволюции, непрерывности с необходимым изменением. В сущности он защищал идею исторически сложившейся, функционально (с точки зрения культуры) оправданной иерархии.
* * *
Слово "культура" Элиот повторяет как заклинание. Культура для него — спасение, преодоление хаоса, "смысл", "спасательный круг" в мире зла.
В своем "культуропоклонничестве", продиктованном, возможно, как и вера, "страхом перед хаосом" прежде всего человеческой природы, он далеко не одинок в XX в.
"Культуропоклонником" был, например, О. Мандельштам. С Элиотом его объединяло толкование времени как исторического феномена и как таинственного метафизического процесса, основанного на триединстве прошлого, настоящего и будущего, вера в абсолютное духовное начало, существующее над временем, "тоска по мировой культуре", признание "прогресса в искусстве бессмыслицей", отношение к языку как основе смысла и красоты поэзии, системе, определяющей склад мышления, уровень культуры народа, человека и общества. Примечательно, что Элиота высоко ценила А. Ахматова. В "Поэме без героя" довольно много реминисценций из его стихов, переклички с ним. Она использовала в качестве эпиграфа к "Решке" начало его поэмы "Ист Коукер" — "В моем начале мой конец". И часто повторяла — "Humility is endless" — "смирение бесконечно" — строки из той же поэмы. "Четыре квартета" ей подарил Борис Пастернак вскоре после войны.
Элиот, подобно Ахматовой и Мандельштаму, верил, несмотря на полемику с символистами, романтиками, в способность слова создавать реальность более подлинную, чем действительность. Внимание к слову, к традиции диктовало и особое внимание к цитате (теория заимствований у Элиота, "цитатность" — у Мандельштама). Они снижали возвышенный романтический образ поэта, выступая как представители не "храма", а "цеха" поэтов. Христианство и античность для них — фундамент европейской культуры, морали и особенностей мировосприятия европейца. Сходно их понимание Данте, что заметила и Н. Мандельштам: "Читая "великого европейца"… он [Мандельштам. — Т.К.] входил в самую суть европейской культуры и поэзии…"
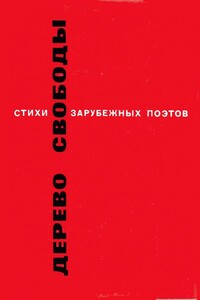
Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964) принадлежит к числу писателей, литературная деятельность которых весьма разностороння: лирика, сатира, переводы, драматургия. Печататься начал с 1907 года. Воспитанный В. В. Стасовым и М. Горьким, Маршак много сделал для советской детской литературы. М. Горький называл его «основоположником детской литературы у нас». Первые переводы С. Я. Маршака появились в 1915–1917 гг. в журналах «Северные записки» и «Русская мысль». Это были стихотворения Уильяма Блейка и Вордсворта, английские и шотландские народные баллады. С тех пор и до конца своей жизни Маршак отдавал много сил и энергии переводческому искусству, создав в этой области настоящие шедевры.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу входят произведения поэтов США, начиная о XVII века, времени зарождения американской нации, и до настоящего времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Классика кошачьего жанра, цикл стихотворений, которые должен знать любой почитатель кошек. (http://www.catgallery.ru/books/poetry.html)Перевод А. Сергеева.Иллюстрации Сьюзан Херберт.
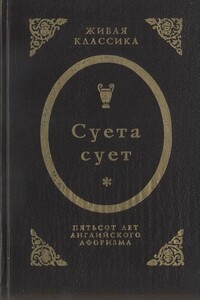
В сборнике впервые на русском языке представлено богатство и многообразие английской «изреченной мысли» на временном пространстве пяти столетий — мысли не только глубокой, оригинальной, остроумной, но и во многом прозорливой.

«В те годы, когда русское новое искусство было гонимо, художники постояли за себя. Лишь немногие трусливо бежали с поля битвы. Остальные – в полном одиночестве, под градом насмешек – предпочли работать и ждать. Мало кто обольщался надеждами, многие предчувствовали, что на долю им выпадет пережить наши тяжелые дни и что лучшего им не дождаться. Тяжело было переживать ту эпоху, но завидна участь художников, потому что их тяжелый труд не пропал даром. В те дни художники имели не только право, но и обязанность утвердить знамя «чистого искусства».
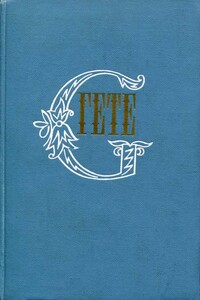
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
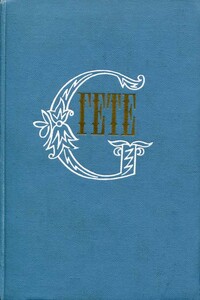
Статья дает объективную характеристику трех пейзажей Рейсдаля, но Гете преследовал этим сочинением не историческую и не академическую цель. Статья направлена против крайностей романтической живописи.
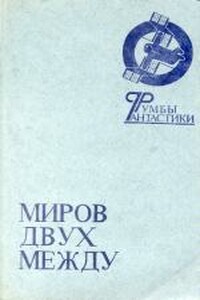
Критический отзыв на научно-фантастическую повесть «Шагни навстречу» молодого волгоградского фантаста Сергея Синякина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
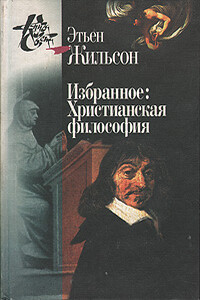
Этьен Жильсон (1884–1978) — один из виднейших религиозных философов современного Запада, ведущий представитель неотомизма. Среди обширного творческого наследия Жильсона существенное место занимают исследования по истории европейской философии, в которых скрупулезный анализ творчества мыслителей прошлого сочетается со служением томизму как величайшей философской доктрине христианства и с выяснением вклада св. Фомы в последующее движение европейской мысли. Интеллектуальную и духовную культуру «вечной философии» Жильсон стремится ввести в умственный обиход новейшего времени, демонстрируя ее при анализе животрепещущих вопросов современности.
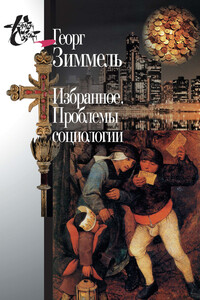
Георг Зиммель (1858–1918) – немецкий философ, социолог, культуролог, один из главных представителей поздней «философии жизни», основоположник т. н. формальной социологии. В том вошли переводы его работ по проблемам социологии: «Социальная дифференциация, Социологические и психологические исследования», «Философия денег», «Экскурс о чужаке», «Как возможно общество?», «Общение. Пример чистой, или формальной социологии», «Человек как враг», «Религия. Социально-психологический этюд», «К вопросу о гносеологических истоках религии», «К социологии религии», «Личность Бога», «Проблема религиозного положения».
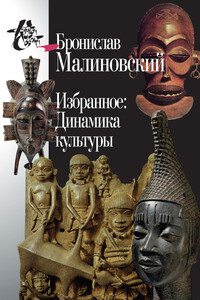
В том вошли следующие работы одного из основателей функциональной школы в английской антропологии: «Динамика культурных изменений», «Преступление и обычай в обществе дикарей», «Миф в первобытной психологии» и др. Малиновский противостоял эволюционистским и диффузионистским теориям культуры, выступал против рассмотрения отдельных аспектов культуры в отрыве от культурного контекста. Культуру он понимал как целостную, интегрированную, согласованную систему, все элементы которой тесно связаны друг с другом.
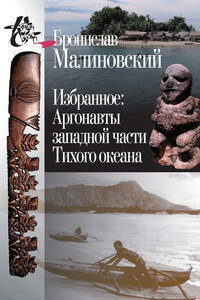
Б. Малиновский (1884–1942) – английский этнограф и социолог польского происхождения, один из основателей и лидеров функциональной школы в английской социальной антропологии. В настоящей работе Малиновский сосредоточен на этнографической деятельности тробрианских островитян; но со свойственной ему широтой взглядов и тонкостью восприятия пытается показать, что обмен ценностями обитателей Тробрианских и других островов ни в коей мере не является чисто коммерческой деятельностью; он показывает, что обмен удовлетворяет эмоциональные и эстетические потребности.