Избранное - [23]
Шрифт
Интервал
В приемной сидит старушка,
Которую выслал МИД.
Бери свой зеленый паспорт,
Валяй на большой простор,
Но помни — стреляет насмерть
Во тьме грузовой мотор.
МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ
В своей американской черной шляпе
широкополой
стояла ты на привагонном трапе,
там, где подковой
к Московскому вокзалу вышла площадь
и Паоло[9]
когда-то взгромоздил на лошадь
облома,
а тот уехал.
И что-то меня мучает и гложет,
и слышу эхо
приветствий, поцелуев, тепловозов,
и вот потеха —
я снова слышу твой железный отзыв
на все вопросы,
и никогда не вытащить, о Боже,
твоей занозы,
и никогда не пересилить этой
стальной дороги,
не отвести угрозы.
И нынче, нынче, подводя итоги
и глядя слезно
в то утро, что светлеет на востоке
и где морозно,
где фонари на индевелом Невском
стоят стеною,
я думаю, что жизнь прожить мне не с кем,
ведь ты со мною.
«Холодным летним днем…»
Холодным летним днем
у Сретенских ворот
не отыскать с огнем,
Москва, твоих щедрот.
«Вечерку» отложив,
я вижу — кончен день!
Еще покуда жив, —
отбрасывает тень
травы позеленей,
красней крепленых вин.
В небесной целине
пестра, как арлекин,
ночная тень Москвы
включает семафор,
наркотики тоски
и жажды самовар.
Великих городов
тем и велик разброд,
что падаль от плодов
никто не отберет.
Закончены дела,
прочитаны листы,
и все, что ты дала, —
все отобрала ты.
Не забывай меня!
Когда-нибудь потом
пошли и мне огня
расплавленным пятном.
ЭЛЕКТРИЧКА 0.40
В последней пустой электричке
Пойми за пятнадцать минут,
Что прожил ты жизнь по привычке,
Кончается этот маршрут.
Выходишь прикуривать в тамбур,
А там уже нет никого.
Пропойца спокойный, как ангел,
Тулуп расстелил наголо.
И видит он русское море,
Стакан золотого вина.
И слышит, как в белом соборе
Его отпевает страна.
ИЗ ЛЕРМОНТОВА
Памяти Аркадия Штейнберга
В начале сентября на волжской воле
так ветрено. Гудит осина в поле
и лесопилка в Белом Городке.
Воняет креозотом, формалином,
по радио: «По взгорьям и долинам…»
И мы спускаемся к реке.
Погрузим рюкзаки в устойчивую лодку,
уложим поплотней крупу, тушенку, водку.
Мотор забарахлит,
потом свое возьмет.
Плывите мимо нас, тверские деревеньки,
нам некуда спешить. Теперь уж помаленьку —
обратный ход.
Он кутается в новую штормовку,
и мне не проявить смекалку и сноровку —
только пассажир.
Закурим, поглядим на мимолетный берег:
«Читай-ка „Валерик“, как славно, что Валерик
нам денег одолжил!»
Он говорит, что «жизнь постиг,
судьбе, как турок иль татарин»[10],
равно за все он благодарен…
«Да что там, Женя, я — старик.
Но как бы вам сказать? Ведь старость
совсем не то, что мните вы…» —
«Да, все признанья таковы.
А как понять?» Теперь осталось
до дома ничего совсем.
Все это было между тем,
в те времена, когда он с нами
мог пошутить, погоревать.
Над среднерусскими лесами
начало осени. Опять
трава пожухла. Вон и трактор
чего-то бьется на меже,
доказывая свой характер.
А небо в лучшем неглиже —
такая облачная тонкость.
И вот последняя подробность:
обедали, он сел к столу
и мне сказал: «А ту строфу
из Лермонтова я запомнил,
поверишь ли, в пятнадцать лет
и этот повторял завет
везде — в издательствах, на полустанках,
в окопах и госпиталях,
в удачах, а равно в отставках,
на пересылках, в лагерях.
И вот теперь все то же, то же
я говорю, дай повторю…
Теперь и свериться негоже
по старому календарю.
Ты думаешь, что старость это?..
А старость просто ближе к тем.
Пойдем дойдем до сельсовета
и попрощаемся затем».
А через час внезапный холод,
сиверко, тьма и мокрота.
Ты думаешь, что жив, что молод,
что где-то люди, города,
и кровию артериальной
кипит колеблющийся вал…
О, если б на платформе дальней
опять я одиноко стал
и в ожидании отъезда
подумал: «Больше никогда…»
О, как свободно, страшно, тесно
небесная блестит слюда.
Ни слова больше. Снисхожденьем
и мертвых можно оттолкнуть.
«И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденьи?»
НАД ФОНТАНКОЙ
Над Фонтанкой развал и разруха,
Дом на Троицкой тоже снесен,
Вылезает мерзавец из люка —
Волосат, до пупа обнажен.
На груди его синею вязью —
Серп и молот, двуглавый орел,
Самогоном набухли подглазья,
На висках золотой ореол.
Душной ночью идет он к собору,
На облезшую бронзу плюет
И навстречу родному простору
Ненавистную песню поет.
Капитальный ремонт и разруха,
Довоенная заваль и дичь,
ГПУ, агитпроп, голодуха
Залегли под разбитый кирпич.
И оттуда тяжелою пылью
На развалины сели мои —
Отлетающая эскадрилья
В боевой предрассветной крови.
Рассыпайся же, многоэтажный
Дом презрения, кражи и лжи,
Невский сумрак, сырой и бесстрашный,
Заползает в твои этажи.
Возвращайся, дитя и бродяга,
В подворотню, где баки гниют.
Все, что надо — судьба и отвага —
Этой ночью тебя признают.
Дом на Троицкой — темные флаги
На развалинах веют, клубясь,
И летят в подворотню бумаги,
Чернокнижьем твоим становясь.
ЗА КРУЗЕНШТЕРНОМ
В. Беломлинской
Все как было. За стрелкой все те же краны,
лесовоз «Волгобалт» за спиной Крузенштерна,
только время все круче берет нас в канны
и вот-вот завершит окруженье, наверно.
На моем берегу отлетела лепнина,
а на том перекрашен дворец в изумрудный…
На глазах этот город еще коллективно
завершает свой пасмурный подвиг безумный.
Он толкает буксир по густому каналу
и диктует забытые ямбо-хореи,
он хотел, чтоб судьбина его доконала —
как угодно, — он шепчет: «Абы скорее!»
Еще от автора Евгений Борисович Рейн
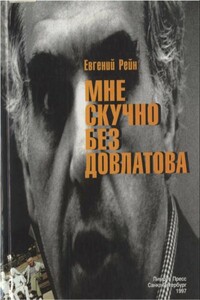
Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.