Избранное - [13]
Шрифт
Интервал
но тебе под залог вручено.
И уже не вернешь, не расторгнешь,
погибая в экспрессе ночном;
обрывая под пломбою тормоз,
ты останешься перед окном.
Я покинул чужие святыни
и последние крохи свои,
чтобы видеть глазами пустыми
обе стороны у колеи.
«Младенчество. Адмиралтейство…»
Младенчество. Адмиралтейство.
Мои печали утолив,
не расхлебаю дармоедства
всех слов моих у снов твоих.
Вот с обтекаемых ступеней
гляжу на дальние мосты, —
там движется вагон степенный,
назначенный меня спасти.
Возить к раздвоенному дому,
сосватать женщине седой,
пока позору молодому
стоять за утренней слюдой.
Он выследил: нас арестуют
за бессердечие и жар,
в постыдных позах зарисуют,
отпустят, как воздушный шар.
Ударившись о подворотню,
он снова выдаст нас, беда!
Лови меня за отвороты,
тебе в постель, а мне куда?
Согласным берегом куда мне,
рассветной этой чистотой,
буксир развесил лоскутами
знак бесконечности с тобой.
Как будто плот органных бревен,
тая дыхание, поплыл —
со всем, что было, вровень, вровень,
все подбирая, что любил.
БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА
КАТОК «СПАРТАК»
На памятном бульваре
Прекрасный холодок.
Зима уже в ударе,
Опять открыт каток.
За полчаса стемнеет,
Фонарики зажгут.
Сильнее сатанеет
Спартаковский лоскут.
На поле темно-красном
светла диагональ.
И было все напрасным —
Но только это жаль.
НА СТАРЫХ УЛИЦАХ
На старых улицах никто тебя не знает,
Международный[5] чист и нелюдим.
Толпа безмолвная с автобуса слезает,
и ты один.
Сверни к Плеханову, а хочешь — на Сенную,
пойди к Гороховой, а лучше сразу в Буфф.
Скажи тихонечко: «Я больше не ревную»
на пальцы помертвелые подув.
Все так же целится шрапнелью батарея
и снится Менделееву табло,
все неразборчиво и все-таки светлее,
чем запотевшее стекло.
О, родина моя, не узнаешь, не знаешь.
И все-таки я твой. Совсем темно.
Но напоследок вдруг зовешь и утешаешь
тем, что засветится окно.
И кто-то подойдет, и тронет занавеску,
и поглядит, не видя ничего,
как на Фонтанке мальчик тянет леску,
пустую леску — только и всего.
БАЛКОН
— Домой, домой! — Не так-то просто
От Автова до Льва Толстого.
Но оставаться слишком поздно,
А ночевать — не та основа
У отношений. Значит, утром —
Упреки или перебранка…
И будут несусветным чудом
Простые слезы без припадка.
Но позолочена пилюля,
Сегодня пятое июля,
Полтретьего на циферблате —
Сие считается рассветом.
Остаться? Нет, чего же ради?
Такси случается и в этом,
Пустынном и глухом квадрате.
………………………………
Через Фонтанку и Калинкин
К реке прикованный цепями;
Как бы садовою калиткой
И на Садовую. Цепляя
Боками Маклина, Сенную,
Демидова и Чернышева.
На Невском тени врассыпную!
— Теперь уж скоро! Хорошо бы! —
Темнее крови Инженерный
Ждет заговорщиков, как прежде,
И вот восходит ежедневный
Восход во всей своей надежде.
Нева от Ладоги к Балтфлоту
Летит, как адмиральский катер,
А я уже держу банкноту.
Поскольку близок дебаркадер.
Причал. На Каменноостровском
Стоит мой дом. Балкон огромен.
Ребенком, мальчиком, подростком
Я здесь бывал. И он построен
И для меня. Хотя, возможно,
Построен он гораздо раньше.
Недаром мой балкон роскошный
Две голых держат великанши.
«Заснеженный Крылов насупился над басней…»
Памяти Глеба Семенова
Заснеженный Крылов насупился над басней,
а книгу завалил крещенский снегопад.
В единственном саду, что может быть опасней,
стоять среди зимы, как тридцать лет назад?
Такая пустота раскинута в аллеях,
и временный надзор решетки над рекой,
в единственном саду нет правых, нету левых,
куда ни поверни — дойдешь до Моховой.
Вернувшись с похорон сварливого провидца,
перемешаем спирт с кладбищенской землей,
в единственном саду все может повториться,
но только не сейчас, а после нас с тобой.
Холодные мосты следят за ледоколом,
что свежим трауром фарватер проложил,
что басней сбудется, что станет протоколом,
определит Крылов — он вместе с нами жил.
В прапамяти Невы, решетки и мартышки,
мы вместе, ни один пока не отличим.
Так записал Крылов в своей тяжелой книжке,
в единственном саду предстанем перед ним.
МОРСКОЙ ВОКЗАЛ
На теплоходик «Волгобалт»
я провожал жену и сына.
Нас словно кто-то оболгал —
и маялась душа, повинна.
Вокруг шумел морской вокзал,
но в ресторане было пусто,
сквозняк над нами полоскал
паласы, и качалась люстра.
А сталинский могучий флот
несокрушимою эскадрой
свершал последний переход
на фреске тесной и нарядной.
Флажками говорил «Марат»,
и желтый адмиральский катер
мутил меня, что лимонад,
покуда плыл за дебаркадер.
Флот уходил в последний бой:
«Гангут» пылал, «Марат» дымился,
и я разгромлен был судьбой
и нестерпимо утомился.
Я думал мальчику сказать,
что виноват, и взять на плечи,
но трудных губ не мог разжать
и поступил куда полегче.
Купил пирожных, и пивка,
и заливную осетрину,
и вот теперь, издалека,
что я скажу об этом сыну?
Прости, что падший адмирал
губами не припал к матроске
твоей, что мало целовал
твои горячие ладошки.
Прости, разболтанный линкор
забыл в сраженье об эсминце,
и опрокинутый ликер
залил на галстуке «Вестминстер».
Милорд, матросик мой, малыш,
запомни этот день в норд-весте.
Я знаю — ты не укоришь
меня в обдуманном злодействе.
Но сам себе я говорю:
«О, деточка, милорд, матросик,
за то я и сейчас горю,
что слышу долгий отголосок
невнятной жалобы твоей —
вот до отплытия минута,
и грохот якорных цепей,
и гибель старого „Гангута“».
Еще от автора Евгений Борисович Рейн
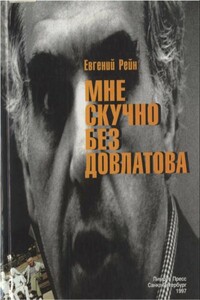
Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.