Избранное - [112]
— С самого рассвета… никак не могу выбраться из этого проклятого леса… А хотел напрямик пройти, — отвечал я, ничего не поясняя и не выражая удивления: как он все сразу понял, ведь он на меня толком и не взглянул.
— Ха, знаешь, как говорится: напрямки ездить, дома не ночевать! — Он улыбнулся, медленно поднял голову и еще больше понизил голос: — Ты, видно, есть хочешь, раз мешка даже не припас, а здесь и воробья не подстрелишь. — И он тут же запустил руку в свой мешок.
— Спасибо, спасибо, — заторопился я, — к ночи доберемся до лагеря. Пить страшно хочется.
Он посмотрел на меня с добродушной насмешкой.
— Да, понятно, вы без колодца никуда! А знаешь, — он протянул мне фляжку и вновь полез в мешок, — нам в лесу никакая жажда не страшна. — Он вытащил ком белой мамалыги. — Вот, больше нет ничего, возьми, подкрепись малость. По пути что-нибудь раздобудем, там пастухи есть и свинари.
Я с волнением отказался — неужто я у него отниму последнее! Но он серьезно посмотрел на меня:
— Бери, когда говорят… разве ты бы со мной не поделился, если б нашел, как я тебя?
Я, пристыженный, взял мамалыгу, а он помолчал и заговорил как бы про себя, словно стараясь заполнить время, отвлечь меня от мыслей и заглушить мое животное чавканье.
— Мы-то, крестьяне, рождены для этой собачьей жизни… В школе, ей-богу, ручка мне была тяжелее лопаты, а в казарме в Крагуеваце, ты не поверишь, воздуха не хватало, задыхался, на учении голова кружилась, руки и ноги будто ватные. А уж в суде — мы судились по задружным делам — в ушах звон, обливаюсь потом, ничего не понимаю, подписал бы и смертный приговор. А вот на турецкую войну пошел, правду тебе говорю, как на свадьбу. Ни жажды, ни голода, спал где придется, хоть рядом пушки бьют. И голову сберег. Это, конечно, божья воля, но я и сам умел вмиг спрятаться за первым кустом, и не настигни меня болгарин в той ночной атаке, я бы теперь с немцем по-другому воевал.
Я взглянул на него сбоку — не знаю, можно ли его отнести к динарскому типу, которым так интересуются ученые. Ничего орлиного, ничего жесткого, застывшего, твердого. Он значительно моложе меня, но с первого взгляда кажется старше. Лоб в морщинах, глаза светло-карие, взгляд спокойный, сдержанный, не любопытный. Нос длинный, на конце мягкий, приплюснутый, усы рыжеватые, редкие, только в углах рта погуще, так что хорошо видны скорбно сжатые губы. В целом лицо внимательное, вдумчивое. Я слушаю. Он говорит на своем южном диалекте. Странно, что он ни о чем не спрашивает, даже из какой я части.
— Ну, спасибо… просто не знаю, как тебя благодарить! — сказал я наконец, а он только шевельнул бровью, даже не отмахнулся. — Возможно, ты меня не поймешь, но я только на этой войне увидел, чего стоят наши крестьяне.
— Эх, братец, ты так думаешь? Все мы так — всегда кажется, что где-то там, за чужим забором, на чужом дворе, по-другому… А дети у тебя есть?
— Нет у меня ни кола ни двора… Мы, горожане, все такие, прячемся от жизни, все что-то измышляем, будто это так уж важно, все боимся, что, не дай бог, помешают, будто в этом спасение народа… а вот, видишь, чуть не подох от голода и жажды, себе самому не смог помочь…
— Да тут нет ничего хитрого, все просто. Пчела находит дорогу к улью из лесной чащи, а медведь, как вылезет весной из берлоги, прямиком идет к воде… Это все пустое…
— А у тебя, верно, жена, дети, да с гектар земли, и свой дом, и участок в лесу, или если, дай бог, вы еще сохранили задругу, так вместе, по-братски, трудитесь и живете! Вот это и есть настоящая жизнь, вам можно позавидовать.
Солдат минуту помолчал, выдохнул дым и со сдержанной строгостью ответил:
— Никогда никому не надо завидовать. Ни царю, ни богачу, ни старому мудрецу, ни глупому ослу!.. Ну-ка, пошли, что ли, может, еще засветло найдем твоих! — проворчал он и скорее грустно, чем недовольно, прервал разговор.
Я пошел рядом, доверчиво, как ребенок, готовый взять его за руку.
Через несколько минут мы оказались на широком, поросшем травой пригорке. Далеко перед нами словно подымался пар — видно, там внизу текла речка и вдоль нее шла тропа. Сквозь тонкую пелену вырисовывались горы — покрытый темным холодным туманом Медведник. Резкий ветер колол иголками, огромная беззвучная даль без сел и людей заставляла напрягать слух, минутами даже казалось, что где-то кричат, вроде зовут кого-то по имени. Я быстро оглянулся — никого. Искоса посмотрел на солдата — он спокойно шагал рядом.
Вдруг он остановился и показал пальцем:
— Ну-ка, окликнем ее.
Голос его мне показался далеким, он не доходил до меня, будто я оглох. А вдали, действительно, стояла, словно дерево, женщина.
Мы свернули к ней. Подошли. Женщина смуглая, неопределенного возраста, скорее молодая, стоит, придерживая передник.
— Что там у тебя? — спросил солдат и посмотрел на меня. — Мы заплатим.
Женщина отвернула передник.
— Вот, больше ничего нет. Возьмите, за что тут платить, ешьте на здоровье!
Сушеные сливы и сморщенные дольки груши.
Я порылся в кармане, достал динар. Она взмолилась:
— Что ты, солдатик, грех брать у вас деньги за это.
— Да не за это, возьми для детей… У тебя есть дети?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
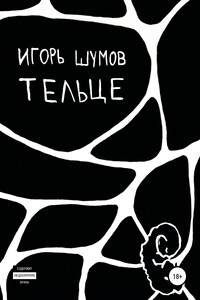
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).