Избранное - [188]
К десяти утра жара сделалась поистине адской. Солнце, подобно ошалевшему пьянчуге, надравшемуся рома, взирало своей багровой физиономией на всю Алфёлдскую равнину, изрытая из себя огонь и лаву. Даже в наиболее затененном уголке ресторанчика гости чувствовали, что вот-вот воспламенятся от поглощенного алкоголя и палящих лучей солнца, проникающих сквозь листву и жарко обжигающих волосы, лоб, нос. Фери Вицаи, отбивая кулаком такт, возвестил песней, что «разгулялася-взыграла» в нем душа, а затем с необузданно молодецкой удалью запустил бокалом в ствол акации. В узкой полоске солнечного луча его монокль сверкал подобно бриллианту. Ласло Сэл долго не сводил с него глаз. Его раздражала эта вызывающе кокетливая стекляшка, она линзой своей собирала свет в фокус и жгла непосредственно его, Ласло Сэла. Он беспокойно вертелся на стуле, налил себе белого вина и тоже пропустил стаканчик, а затем, по-прежнему не сводя глаз с монокля, ткнул в сторону Фери толстым указательным пальцем с перстнем-печаткой и произнес:
— Покупаю эту стекляшку.
Наступила тишина. Фери, облокотись о стол, небрежно бросил в пространство:
— Она не продается.
Взметнулись бокалы — с красным вином. Взметнулись бокалы — с белым вином. Все выпили.
Ласло Сэл извлек из кармана бумажник.
— В таком случае покупаю эту шляпу, — он опять ткнул пальцем в сторону Фери. — Плачу тридцать крон.
— Мало!
— Сорок!
— Тоже мало.
— Пятьдесят! — воскликнул Ласло Сэл, размахивая ярко-розовой банкнотой.
Фери не отвечал, погрузившись в думы о своем бедственном финансовом положении. И вдруг, ко всеобщей неожиданности, перебросил на другой стол свою панаму, украшенную лиловой лентой. Ласло Сэл попытался было напялить ее, но череп у него был продолговатый и панама елозила по голове. Однако пятьдесят крон он переслал с официантом — на подносе.
— Куплю и галстук, — продолжал он завязывать знакомство. — И манишку. За двадцать крон чохом.
— Уступлю только за тридцать, — парировал Фери, и с тем галстук, манишка и тридцать крон поменяли владельцев.
— Беру пиджак и сорочку — но сей же момент, без промедления и не торгуясь, за сто крон. Раз, два, три — продано!
— Быть по сему.
— И за брюки дам столько же.
— Э, нет! — воспротивился Фери. — Сто пятьдесят! Дешевле и брату родному не отдам.
— Где наша не пропадала! — воскликнул Ласло Сэл и выложил деньги.
Фери разоблачился и под всеобщие крики «ура» отправил с официантом брюки новому владельцу.
— Шампанского! — возопил он. — Шампанского!
Официанты принесли ведерки, наполненные ледяной колодезной водой, и принялись откупоривать бутылки, шумно стреляя пробками. И тут Ласло Сэл продолжил торг:
— Двадцать крон за ботинок. И за другой столько же.
— Нет, другой подороже будет.
— Отчего так?
— Да оттого, что тот левый, а это — правый. Тридцать крон.
— Пятьдесят! — подытожил Ласло Сэл. — Но зато вместе с носками.
Фери снял с себя ботинки и носки. Вздохнул с облегчением. До чего же приятно было освободиться от множества прилипшего к телу тряпья! Он разгреб босыми пальцами мелкий песок, которым было посыпано в саду, залпом опрокинул бокал шампанского, но ему по-прежнему было жарко, и тогда он прямо из бутылки смочил ледяным шампанским себе шею и грудь, ополоснул руки, лицо, даже полил свою густую черную шевелюру, и белые хлопья пены шипели и лопались на волосах подобно мыльным пузырькам. Затем он в изнеможении откинулся на спинку скамьи; от нестерпимой тропической жары не было спасу. Перед ним вздымалась груда денег — бумажных, серебряных, золотых, — четыреста крон ровным счетом. А перед Ласло Сэлом кипой был свален гардероб, скромный, однако весьма дорогостоящий.
Теперь, созерцая Фери во всем его обнаженном естестве, Ласло Сэл без ущерба для своего самолюбия мог позволить себе доверительный тон.
— Твое здоровье, любезный братец, — он поднял бокал.
— Будь здоров, любезный дядюшка, — ответствовал Фери и опорожнил бокал.
Цыганский оркестр теперь пристроился возле Фери, наигрывая у него над ухом одну песню за другой. И вдруг подернутые кровью глаза Ласло Сэла раскрылись широко да так и застыли. Он увидел, что в глазу у Фери по-прежнему поблескивает монокль, а ведь между тем из-за этой стекляшки весь сыр-бор и разгорелся.
— Скажи-ка, милый братец, — спросил он, — а эта штука точно не продается?
— Ежели уплатишь сполна, милый дядюшка.
— А сколько запросишь?
— Триста крон.
— Таких денег у меня не наберется, милый братец. Но две сотни я готов уплатить со всем моим удовольствием.
— Сожалею, однако же уступить никак не могу.
Торг затянулся, покуда старики не скинулись на паях и не приобрели за три сотни крон последнюю деталь гардероба Фери — его монокль. Цыгане грянули туш.
Молодые люди купались-плескались в шампанском. Старики втихомолку потягивали вино.
В десять утра Фери обратился к ним со словами:
— А вы чего не пьете? Иль вино у вас кончилось? Прошу!
И он незамедлительно отправил им две бутылки шампанского, однако с условием, что получит взамен свою шляпу. Так, постепенно, он выкупил обратно весь свой гардероб. В одиннадцать часов Фери был облачен с головы до пят и монокль опять поблескивал у него в левом глазу. К тому времени обе компании, поскольку теперь меж ними не было никаких расхождений, воссоединились и принялись за общим столом распивать шампанское до полудня.

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. С ним все происходило не так, как обычно происходит с дурными мальчиками в книжках для воскресных школ. Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
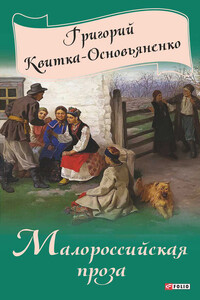
Вот уже полтора века мир зачитывается повестями, водевилями и историческими рассказами об Украине Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), зачинателя художественной прозы в украинской литературе. В последние десятилетия книги писателя на его родине стали библиографической редкостью. Издательство «Фолио», восполняя этот пробел, предлагает читателям малороссийские повести в переводах на русский язык, сделанных самим автором. Их расположение полностью отвечает замыслу писателя, повторяя структуру двух книжек, изданных им в 1834-м и 1837 годах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.