Избранное - [36]
Покуда ты дитя, ты и не живешь, спишь, ешь что дают, делаешь что велят. Вырастаешь, начинаешь работать, женишься, как заповедано господом. И снова работаешь, снова суетишься… А зачем?..
Старуха перестала шевелить губами, замерла, задумавшись: за ту малую малость, что ты оставляешь в наследство, тебя укладывают в гроб, закапывают глубоко в землю, а душа твоя со всем лучшим, что в ней было, и со всем дурным, что в ней было, предстает пред отцом небесным. На великий суд! Вот она, участь человеческая!..
Так оно есть, так оно и будет. От бога ведь заведено, значит, так и до́лжно. Мрачные мысли ее рассеялись, растаяли…
Старуха подошла к гробу, поправила самодельную восковую свечу в ногах и, вернувшись на свое место, снова сложила молитвенно руки на груди и застыла, уставившись в одну точку. В душе ее царил полный покой и полное примирение с жизнью, в голове было пусто, как в доме, где помер хозяин и вещи дремлют в полумраке, как в сказке…
Вдруг, откуда ни возьмись, в комнату влетела бабочка, испуганно трепыхая крылышками, она билась о стены, как бы ища выхода…
«Воск небось еще остался», — подумала старуха и вспомнила, что кусок еще лежит на полке, и лежит он с тех самых пор, когда хоронили они свекра да умершую дочку, еще и для нее останется, когда придет ее час умирать.
«Ноги ломит».
«Что ж, старость не радость, как же им не болеть», — мысленно отвечает она сама себе. Кости от колен доступней так и врезаются в тело, точно две палки, воткнутые в мясо. Стоять больно, ох как больно. Старуха отнимает одну руку от груди и кончиком платка вытирает пот со лба. Потом снова возвращает руку на место и смежает отяжелевшие от усталости веки.
«Ноги ломит».
«Надо терпеть. Что есть жизнь человека? Мука. В муках рождаемся, в муках умираем; всю жизнь приходится мучиться, как ливни и ветра, секут нас беды: то придавит тебя колесом телеги, то какая-нибудь хворь привяжется, то пожар…»
Сквозь смеженные веки старуха видит угол гроба и свечу, желтое пламя трепещет, вот-вот погаснет; сама не осознавая, что она делает, старуха протягивает руку и очищает фитилек от нагара и щупает пламя как что-то мягкое, податливое, безобидное.
Поп с причтом показались на дороге. Во дворе все зашевелились. Стоящие растолкали спящих, подняли их на ноги. Заспанные, с отпечатками травы на лицах, те поспешили со всеми остальными к воротам глянуть, кто из хозяев встретит попа. Обычно попа должен был встречать сам хозяин со старшим сыном, а если сыновей нет, то с кем-нибудь из родни.
Но Симион с Валериу возились в хлеву, и встретить попа было некому.
У ворот поп Тирон остановился, поджидая поотставшего от всех пономаря. Заметив, что люди смотрят на него с любопытством, а хозяева не спешат его встречать, он вошел в ворота и произнес вместо положенного «Упокой, господи»:
— Здорово, православные! На посиделки собрались? — и, видя растерянность на лице своих прихожан, пояснил: — Я потому так говорю, что не вижу среди вас хозяев. На мельницу они отправились, что ли?
— Захлопотались они, батюшка, дел-то много, — ответил кто-то из толпы. — Какой хозяин преставился, опора всему дому. Трудно без него управиться.
Поп пытливо поглядел на говорившего и признал в нем одного из ближайших уркановских родственников.
— Другой, может, тебе и поверит, Никулае… А я ведь тут не чужак, я всех вас как облупленных знаю… Опора эта давно валялась в стороне, в куче дровишек, что идет на растопку… А ты давно ли и за сколько в адвокаты нанялся?
Поп с дьячком по людскому коридору прошли в дом и тут же свернули в угловую комнату переодеться. Следом примчался Симион. Одет он был не как положено в таких случаях, в чистое платье, а по-домашнему, по-рабочему, в грязные, засаленные штаны, в стоптанные постолы, из дыр которых торчали полуистлевшие портянки, рубаха на нем была тоже грязная, расстегнута, обнажив волосатую грудь и мощную красную шею. Симион вбежал не здороваясь и не поцеловав руку у батюшки. Этот «варварский» обычай поп отменил тогда же, когда отменил выпивку на поминках, и с тем же успехом. Со временем поп убедился, что «варварский» обычай не столь уж нелеп, как ему показалось вначале, и служит для почитания священнослужителя, и поэтому позволял целовать у себя руку, хотя и делал вид, что противится.
— Что, Симион, ни покоя тебе, ни отдыха? Все трудишься, трудишься? — спросил поп, не взглянув на остановившегося в дверях хозяина, даже не повернув головы: дьячок в это время помогал ему облачаться в ризу.
— А кому ж, окромя меня, трудиться? Когда столько народу в доме собралось, особый догляд нужен.
Священник отметил про себя, что Симион забыл сказать положенное «батюшка».
— Оно верно. Труд богу всегда угоден — и в постный день.
В комнату, оттеснив отца, ворвался Валериу. Это Лудовика срочно послала его из боязни, как бы «этот олух царя небесного, твой отец, не сморозил какую-нибудь глупость». Священник все еще стоял спиной к двери, но он узнал Валериу по характерному покашливанию. Валериу, все время откашливаясь, говорил сиплым голосом, будто хлебнул в жару ледяной воды.
— Святой отец, хм-хм… — начал он, выговаривая слова по-господски и как бы похрюкивая. — Нам бы хотелось устроить деду достойные похороны, как полагается у богатых хозяев.
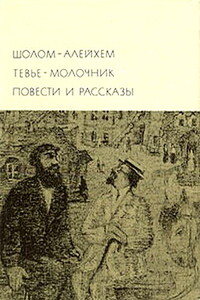
В книгу еврейского писателя Шолом-Алейхема (1859–1916) вошли повесть "Тевье-молочник" о том, как бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, а также повести и рассказы: "Ножик", "Часы", "Не везет!", "Рябчик", "Город маленьких людей", "Родительские радости", "Заколдованный портной", "Немец", "Скрипка", "Будь я Ротшильд…", "Гимназия", "Горшок" и другие.Вступительная статья В. Финка.Составление, редакция переводов и примечания М. Беленького.Иллюстрации А. Каплана.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.