Из глубин памяти - [12]
Багрицкий вдруг запел. Он пел хриплым, задыхающимся, прерывистым голосом, на какой-то свой мотив, в темпе марша, и отстукивал такт.
— Как это замечательно:
Тогда я особенно ясно понял, что для этого человека поэзия была альфой и омегой всего его существования.
Уже под конец беседы мы обсудили вопросы издания «Думы про Опанаса» с иллюстрациями Граббе.
Иллюстрации эти очень нравились самому Багрицкому, — он хотел, чтобы все они были даны в книге…
Это было уже незадолго до его смерти. Багрицкий позвонил мне, просил обязательно прийти: у него важное дело. Я пришел к нему в тот же вечер. Он долго говорил о том о сем, расспрашивал о чем угодно, но о деле молчал. Наконец начал:
— Я пишу поэму. Поэма эта о себе самом, о старом мире. Там почти все правда, все это со мной было. Вот я вам почитаю куски, а там, где пропуски или недоработано, расскажу…
Багрицкий вытащил тетрадки. Это была поэма «Февраль». Черновики были в большом беспорядке, многое было перечеркнуто, переправлено. Отдельные строки он сам с трудом разбирал. Чтение все время перебивал замечаниями: «Это плохо, это я переделаю!.. Здесь пропуск… Тут будет песня…»
Недостающие места поэмы он рассказывал. В известном теперь, незаконченном варианте поэмы пропусков осталось уже немного — главным образом лирические вставки, песни. Фабула вся налицо.
— Все это со мной так и происходило, как я пишу, — и гимназистка эта, и обыск. Я тут совсем немного приврал, — смеялся Багрицкий. — Но это нужно для замысла. Во-первых, в этом доме бандитов, которых мы искали, на самом-то деле не оказалось. А во-вторых, когда я увидел эту гимназистку, в которую я был влюблен, которая стала офицерской проституткой, то в поэме я выгоняю всех и лезу к ней на кровать. Это, так сказать, разрыв с прошлым, расплата с ним. А на самом-то деле я очень растерялся и сконфузился и не знал, как бы скорее уйти. Вот и все…
— Ну как, хорошо? Нет? Вы скажите, вам нравится? — настойчиво спрашивал Багрицкий. — Нет, вы серьезно, без комплиментов! А вы посмотрите, как я над ней тружусь. Я тут до сотни синонимов выписываю на листочках. А потом выбираю, ищу самый лучший, примеряю, отбрасываю…
Я подивился этой кропотливой работе, огромной требовательности Эдуарда к каждому своему слову. Вот почему он так мало стихов опубликовал за всю свою жизнь. Он редактировал самого себя строго и беспощадно. Это был исключительный пример для того поэтического молодняка, который, не успев написать, тащит еще горячее и совсем сырое произведение в редакцию. А ведь у Багрицкого часто даже отвергнутые варианты были блестящи!
На другой день я прислал ему для подписи договор на «Февраль»…
В годовщину смерти Багрицкого я председательствовал на вечере в память его в Доме советского писателя.
В конце первого отделения, когда последний оратор еще говорил, я нажал кнопку звонка, ведшего в особую комнату. Оттуда включили «голос Багрицкого», записанный на радиопленку. Сквозь тихое шипение механический голос диктора объявил, что у микрофона — поэт Эдуард Багрицкий. И вслед за тем из черной тарелки рупора возник Эдуард…
Он читал «Шаги командора» Блока:
Я снова видел его, сидящего с подвернутой ногой на кушетке, — седеющий вихор свисал над густыми бровями. Я снова слышал его чтение, этот густой, прерывистый, стонущий и рычащий голос.
И в самом конце вечера он снова читал нам свою «Смерть пионерки». Он как бы вновь обрел голос, он продолжал жить своей любимой поэзией, как всю жизнь. Он читал нам стихи, — что же еще должен делать поэт, даже после своей смерти? Слушая голос Багрицкого, я видел его живым…
Это была моя последняя встреча с Багрицким.
В гостях у Асеева
Из относящихся к тому времени моих воспоминаний, связанных с Асеевым, самое яркое — двадцатипятилетний юбилей его литературной деятельности.
Юбилейный вечер был устроен в клубе писателей. Мне был поручен доклад, К. Симонову — приветственное слово от молодых поэтов. Перед началом вечера мы ожидали своего выхода в соседней с залом комнате. Симонов очень волновался, ходил взад и вперед, поправлял галстук, потом попросил меня прослушать написанное им слово. Я, по долгу старшего, прослушал, одобрил. Сам же, как человек, немало выступавший перед различной аудиторией, был спокоен. Слишком спокоен.
Вечер открыл Фадеев. Он не вышел на трибуну, а стоя за столом посреди многочисленного президиума произнес своим особенным, высоким голосом вступительную речь. Из стихов Асеева он выделял то, что любил: не игру созвучиями, или неологизмы, или «кручение сальто» в стихе — все то, чего немало было у Николая Николаевича, особенно в ранние годы творчества и в лефовский период, — а страстные публицистические стихи и ясную прозрачную лирику. Ведь сам Асеев писал о себе: «Я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути». Высокий, очень прямо держащийся Фадеев говорил о «Семене Проскакове», о «Синих гусарах» и в заключение прочел целиком «Русскую сказку».
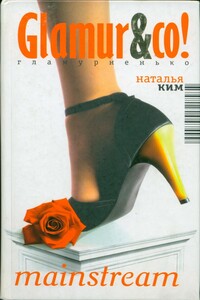
Что делать, если ты застала любимого мужчину в бане с проститутками? Пригласить в тот же номер мальчика по вызову. И посмотреть, как изменятся ваши отношения… Недавняя выпускница журфака Лиза Чайкина попала именно в такую ситуацию. Но не успела она вернуть свою первую школьную любовь, как в ее жизнь ворвался главный редактор популярной газеты. Стать очередной игрушкой опытного ловеласа или воспользоваться им? Соблазн велик, риск — тоже. И если любовь — игра, то все ли способы хороши, чтобы победить?

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
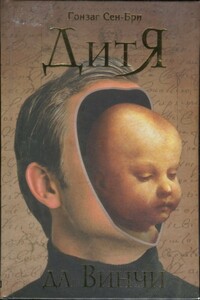
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.
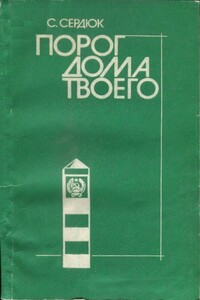
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.