Из глубин памяти - [10]
Только через год мне выпало это ни с чем не сравнимое наслаждение. В Ялте, на открытой сцене, Маяковский вел свой разговор-доклад, читал стихи перед огромной, кипящей страстями аудиторией. Молодежь бурно его приветствовала, пожилые интеллигенты, сохранившие дореволюционное обличие, подавали с места ехидные вопросы, посылали подковыристые записочки. Он отвечал остроумно и хлестко, но дело было не в этих ответах. Главное были стихи. Маяковский читал их, как никто другой, его необычайный голос был слышен в самых дальних рядах (а микрофонов в ту пору не было), каждое слово в его устах приобретало как бы дополнительный заряд взрывчатой силы, освещалось светом личности самого поэта, как бы заново рождалось. Мощь голоса Маяковского, широта его жеста, выразительность интонации, переменный шаг ритма стихов — все это накладывало свою особую печать на слово, строку, строфу. Смысл, казалось бы, известных понятий обновлялся остротой и масштабностью образов, неожиданностью рифм. Слова действительно начинали сиять заново. И когда он кончал читать стихотворение, в аплодисментах объединялись все: и энтузиасты, и скептики. А Маяковский, пользуясь паузой, отпивал глоток чаю с лимоном, вытирал платком лоб и снова начинал работать. Это была великолепная работа.
Эдуард Багрицкий
В дверях появился большой, грузный, седеющий человек в белом летнем костюме. Его я знал, узнал сразу, хотя и не был с ним знаком. Живой, ходячий шарж Кукрыниксов из книги «Почти портреты». Я вспомнил подпись Архангельского.
Это был бард романтизма, почетный рыбовод и птичник, Эдуард Багрицкий.
Пока речь шла о романах, повестях, рассказах, очерках, принимались или отвергались они, Багрицкий почти не слушал, шептался то с одним, то с другим редактором.
Настала его очередь докладывать о прочитанных за декаду стихах. Я услышал его голос, хрипловатый, задыхающийся, стонущий, рыкающий.
Уже тогда я заметил характерную черту Багрицкого-редактора. Он обладал поистине огромными познаниями в поэзии. Но при всем том отвергал только явную писанину, бездарь, графоманство. Если попадалась такая рукопись, Эдуард и в устных и в письменных отзывах был беспощаден, язвителен. Писал очень коротко, десять — двадцать строк, выуживал у автора несколько наиболее нелепых стихов, приводил их в своей рецензии и заключал убийственным резюме.
Но так бывало редко. Всякая рукопись, в которой светились хоть проблески поэзии, заставляла его уже колебаться, а если в книжке находилось с десяток удовлетворительных, свежих, самостоятельных стихов, Багрицкий уже высказывался за издание, брался сам редактировать. Он был слишком мягок в решении вопроса: издавать или не издавать.
Особенно это проявлялось в тех случаях, когда автор имел возможность пойти побеседовать с Багрицким о своих стихах (а кто же не имел такой возможности? Эдуард принимал всякого и каждого).
Из-за своей болезни Багрицкий очень редко появлялся в редакции. Большей частью он присылал письменные отзывы, написанные характерными и весьма неразборчивыми стремительными загогулинами, которые коллективно, по складам, «пальчиком водя», зачитывались на редсовете.
Поэты ходили к нему полчищами. Они несли свои рукописи, зная, что он редактирует в «Федерации» (а позднее — в «Советской литературе») поэзию. И, только получив апробацию, уже с его рецензией несли книжку в издательство. Других он приглашал сам, чтобы вместе редактировать, «делать» уже одобренную им рукопись. Третьи, прочитав в издательстве письменный отзыв, не удовлетворялись этим и требовали беседы с рецензентом. Приходилось направлять их на квартиру.
Все они вместе и каждый в отдельности терзали Эдуарда бесконечно, и сколько раз случалось, что, махнув рукой и не выдержав атак и приставаний особенно назойливых авторов, Багрицкий пропускал ранее отвергнутую им книгу.
Иногда в таких случаях он сам звонил в издательство и предупреждал, что он принял плохую книгу, чтоб отвязаться от автора, и просил ее не издавать.
Сколько драгоценного времени, сколько сил отняла у Багрицкого эта литературная вобла, от которой он, прикованный к своей тахте, не мог и не умел отделаться! Сколько прекрасных стихов, быть может, просто не успел написать Багрицкий, растрачивая свое время на этих самовлюбленных, надоедливых, бездарных и докучливых людей!
Но зато и скольким поэтам он по-настоящему помог, поработал с ними, обучил и воспитал их!
Многие обязаны Багрицкому больше, чем даже они сами думают. Каждую фальшивую, неверную ноту он замечал сразу, каждую настоящую поэтическую строку, слово схватывал на лету. Как немногие, на память знал он почти всю русскую поэзию. Как редкие поэты, он не знал чувства зависти и радовался каждому поэтическому успеху — всякому удавшемуся произведению. И с этой стороны Багрицкий был неоценимым редактором поэзии, знатоком ее и энтузиастом, беспристрастным в смысле групповщины и страстным во всех смыслах ценителем.
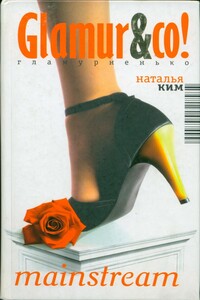
Что делать, если ты застала любимого мужчину в бане с проститутками? Пригласить в тот же номер мальчика по вызову. И посмотреть, как изменятся ваши отношения… Недавняя выпускница журфака Лиза Чайкина попала именно в такую ситуацию. Но не успела она вернуть свою первую школьную любовь, как в ее жизнь ворвался главный редактор популярной газеты. Стать очередной игрушкой опытного ловеласа или воспользоваться им? Соблазн велик, риск — тоже. И если любовь — игра, то все ли способы хороши, чтобы победить?

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
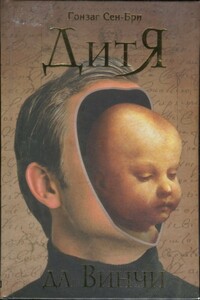
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.
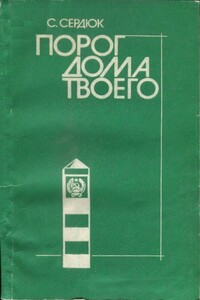
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.