История Рима. Том 1 - [293]
Римская литература занимает по отношению к греческой такое же положение, какое занимает немецкая оранжерея по отношению к сицилийской апельсинной роще; можно находить наслаждение и в той и в другой, но сравнивать одну с другой совершенно немыслимо. Пожалуй, это в большей степени относится к римской литературе, употреблявшей отечественный язык латинов, чем к той, которая употребляла иностранный язык; первая большей частью была делом не римлян, а иноземцев — полугреков, кельтов и немного позже даже африканцев, сначала освоившихся лишь с внешними формами латинского языка; в числе этих писателей, выступавших в то время перед публикой в качестве поэтов, не только нельзя назвать ни одного человека знатного происхождения, но даже нельзя с уверенностью назвать ни одного уроженца Лациума. Даже самое слово поэт было заимствовано от иноземцев, и еще Энний настойчиво напоминал о том, что он поэт>286. Но эта поэзия не только была чужеземной, но также была заражена всеми недостатками, обыкновенно встречающимися там, где литераторами являются школьные преподаватели, а публику составляет народная толпа. Мы уже говорили о том, как авторы комедий из желания угодить публике старались опошлить свои произведения и доходили до площадной грубости; мы уже ранее указывали и на то, что двое из самых влиятельных римских писателей сначала были школьными преподавателями и только впоследствии сделались поэтами и что, в то время как греческая филология, возникшая лишь после отцвета национальной литературы, производила свои эксперименты над мертвым телом, в Лациуме возникновение грамматики и закладка фундамента для литературы шли с самого начала рука об руку почти так же, как при теперешних миссиях в языческих странах. Действительно, если мы без всякой предвзятой мысли вглядимся в эту эллинистическую литературу VI в. [ок. 250—150 гг.], в эту низведенную на степень ремесла и лишенную всякого самостоятельного творчества поэзию, в это сплошное подражание самым пошлым произведениям чужеземного искусства, в этот переводный репертуар и в этот зародившийся на чужеземной почве эпос, то мы готовы отнести их к числу болезненных симптомов этой эпохи. Однако хотя такой приговор и нельзя назвать несправедливым, но справедливость его односторонняя. Прежде всего следует принять во внимание то обстоятельство, что эта искусственно созданная литература возникла у такой нации, которая не только не имела никакой национальной поэзии, но и впоследствии никогда не была способна создать таковую. В древности, которой была чужда современная нам поэзия отдельной личности, пора творческой поэтической деятельности в сущности совпала с непостижимой эпохой страха и радости становления жизни; без ущерба для величия греческих эпиков и трагиков можно утверждать, что их поэтическое творчество в сущности заключалось в обработке старинных сказаний о богах, принявших человеческий образ, и о людях, превратившихся в богов. В Лациуме вовсе не существовало этой основы античной поэзии, а где мир богов не имеет внешних форм и сказания ничтожны, там не могут сами собою созревать золотые яблоки поэзии. К этому присоединяется другое, еще более важное соображение. Как внешнее государственное развитие Италии, так и ее внутреннее духовное развитие достигли того пункта, на котором уже не было возможности уберечься от влияния эллинизма и долее поддерживать римскую национальность, основанную на исключении всякого высшего и индивидуального умственного образования. Не только историческим, но даже поэтическим оправданием для римско-эллинистической литературы служит именно эта пропаганда эллинизма в Италии; она, конечно, имела революционный характер и была направлена к уничтожению национальности, но она была необходима для духовного объединения народов. Из ее мастерской не вышло ни одного нового и настоящего художественного произведения, но она распространила на Италию умственный кругозор Эллады. Если мы станем рассматривать греческую поэзию даже только с чисто внешней стороны, то найдем, что она предполагала в слушателе известную сумму положительных знаний. В античной поэзии не было той законченности в себе, какая составляет главную особенность, например, шекспировской драмы; кто не знаком с циклом греческих легенд, тот не поймет основной мысли рапсодий и легенд и даже нередко не поймет их содержания. Если римская публика того времени и была (как это доказывают плавтовские комедии) довольно близко знакома с гомеровскими поэмами и с легендами о Геракле, а из остальных мифов имела понятие по крайней мере о самых общеизвестных>287, то эти познания проникли в публику отчасти через школу, а главным образом через театр, и таким образом было положено начало для понимания эллинской поэзии. Но еще гораздо глубже влияло введение в Лациуме в употребление римского стихотворного языка и греческого стихотворного размера, что с полным правом подчеркивалось еще умнейшими из литераторов древности. Если «побежденная Греция одолела своих грубых завоевателей искусством», то этот успех был достигнут главным образом тем, что из неуклюжего латинского наречия выработался развитой и возвышенный поэтический язык, что взамен монотонных и отрывистых сатурнийских стихов плавно потекли сенарии и загремели гекзаметры, что мощные тетраметры, ликующие анапесты и искусно переплетенные лирические размеры достигли до слуха латинов на родном языке. Поэтический язык служит ключом к идеальному миру поэзии, а стихотворный размер — к поэтическому восприятию; Гомер и Софокл писали не для тех, для кого нем красноречивый эпитет и мертво живое сравнение и у кого не находят в душе отголоска такты дактилей и ямбов. Это не значит, что поэтическое чувство и ритмический размер воспринимаются сами собой. Способность воспринимать идеальные впечатления, конечно, вложена в человеческую душу самой природой, но, чтобы созреть, ей нужен благотворный солнечный свет, а в мало склонной к поэзии латинской нации ей был также нужен внешний уход. Это не значит также, что при широко распространившемся знании греческого языка восприимчивая римская публика могла бы довольствоваться и греческой литературой. Но то таинственное очарование языка, которое достигает своей высшей степени в стихотворной форме выражения и в стихотворном размере, составляет принадлежность не всякого языка. Кто посмотрит с этой точки зрения на эллинистическую литературу и в особенности на римскую поэзию того времени, тот сможет дать им более верную оценку. Если эта литература пыталась пересадить в Рим эврипидовский радикализм, если она старалась растворить богов в образах умерших людей или в воплощениях отвлеченных идей, если она вообще стремилась поставить рядом с денационализированной Элладой денационализированный Лациум и растворить все самостоятельно развившиеся резкие национальные особенности в проблематической идее всеобщей цивилизации, то всякий волен считать такую тенденцию отрадной или отвратительной, но никто не может сомневаться в ее исторической необходимости. Кто усвоит эту точку зрения, тот, конечно, не будет отвергать недостатков римской поэзии, но будет понимать, отчего они происходили, и вследствие того будет до некоторой степени оправдывать их. Ничтожному и нередко грязному содержанию этой поэзии конечно не соответствует сравнительно законченная внешняя форма, но ее существенное значение и заключалось именно в ее внешних достоинствах — в обработке языка и стихотворного размера. Нехорошо, что римская поэзия находилась преимущественно в руках школьных наставников и иноземцев и состояла почти исключительно из переводов и переделок; но если главная цель поэзии заключалась в том, чтобы перекинуть мост из Лациума в Элладу, то следует признать, что Ливий и Энний были призваны к поэтическому первосвященству в Риме, а переводная литература была самым простым средством для достижения их цели. Еще хуже, что римская поэзия выбирала предпочтительно самые бесцветные и самые бедные содержанием оригиналы, но и это было согласно с ее целью. Никто не будет ставить эврипидовскую поэзию наравне с гомеровской, но рассматриваемые с исторической точки зрения произведения Эврипида и Менандра были такой же библией для космополитического эллинизма, какими были Илиада и Одиссея для национального эллинизма. Поэтому представители указанного выше направления римской литературы имели полное основание вводить свою публику прежде всего в эту сферу греческой литературы. Быть может, и инстинктивное сознание ограниченности своих поэтических дарований побуждало римских литературных деятелей придерживаться предпочтительно Эврипида и Менандра, а Софокла и даже Аристофана оставлять в стороне, потому что чисто национальную поэзию нелегко пересадить на иноземную почву, между тем как рассудок и остроумие, которые лежат в основе как эврипидовской, так и менандровской поэзии, по самой своей природе космополитичны. Во всяком случае римским поэтам VI в. [ок. 250—150 гг.] следует поставить в заслугу, что они не примкнули к современной им эллинской литературе или к так называемой александрийской школе, а искали для себя образцов в более древней классической литературе, хотя и не в самых чистых ее сферах. Хотя их и можно упрекнуть за бесчисленные неудачные приспособления и за нарушения законов искусства, но это такие прегрешения против евангелия, которых нет возможности избежать при отнюдь не чистоплотной миссионерской деятельности; и в историческом и даже в эстетическом отношении они некоторым образом искупаются тем усердием к вере, которое также неразлучно связано с деятельностью пропагандистов. Можно не соглашаться с Эннием в оценке его евангелия, но в том, что касается веры, важно не столько то, во что человек верует, сколько то, как он верует; поэтому и римским поэтам VI в. нельзя отказать в признании их заслуг и в чувстве восхищения. Полное свежести и силы сознание могущества эллинской мировой литературы и святое пылкое желание пересадить это чудесное дерево на чужеземную почву проникали всю римскую поэзию VI в. и своеобразно сливались с возвышенными духовными влечениями этой великой эпохи. Позднейший очищенный эллинизм относился к римским поэтическим произведениям того времени с некоторым пренебрежением; но он скорее должен был бы преклоняться перед этими поэтами, которые при всех своих несовершенствах были более тесно связаны с греческой поэзией и стояли ближе к настоящему стихотворному искусству, чем их более образованные потомки. В смелом соревновании поэтов того времени, в их звучных ритмах и даже в поэтической их гордости было больше величия, чем в какую-либо другую эпоху римской литературы, и даже тот, кто ясно видит слабые стороны этой поэзии, вправе применить к ней те гордые слова, которыми она величала сама себя, — что она для смертных
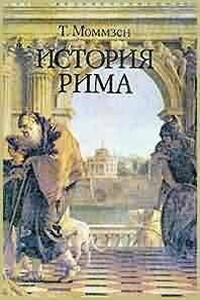
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
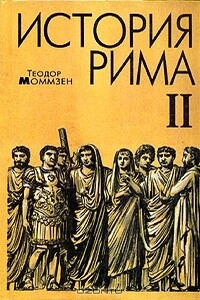
Теодор Моммзен. История Рима. — СПб.; «НАУКА», «ЮВЕНТА», 1997.Воспроизведение перевода «Римской истории» (1939—1949 гг.) под научной редакцией С. И. Ковалева и Н. А. Машкина.Ответственный редактор А. Б. Егоров. Редактор издательства Н. А. Никитина.
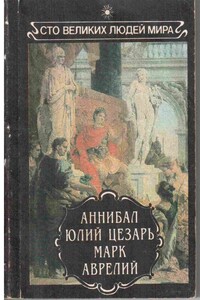
Издательство «Муза» продолжает выпуск серии «100 великих людей мира». В третий выпуск вошли три биографических новеллы. Первая из них об Аннибале — выдающемся полководце и великом гражданине Карфагена, прославившемся в войне карфагенян с римлянами.Вторая новелла о Юлии Цезаре — политике, мыслителе Римской империи, чье правление оказало огромное влияние на историю Европы.И, наконец, третья — о Марке Аврелии — одном из самых просвещенных и гуманных императоров Римской империи, философе и мыслителе, чье имя стало символом мудрости и гуманизма на долгие века человеческой истории.
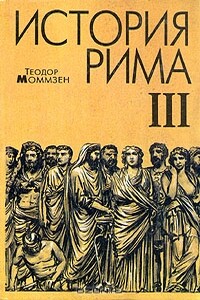
Теодор Моммзен. История Рима. — СПб.; «НАУКА», «ЮВЕНТА», 1997.Воспроизведение перевода «Римской истории» (1939—1949 гг.) под научной редакцией С. И. Ковалева и Н. А. Машкина.Ответственный редактор А. Б. Егоров. Редактор издательства Н. А. Никитина.
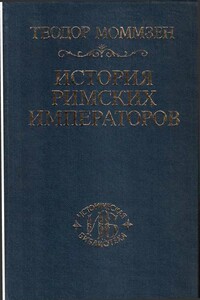
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
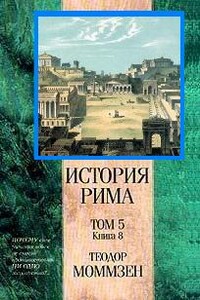
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.
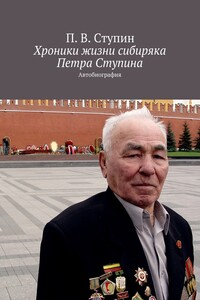
У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.