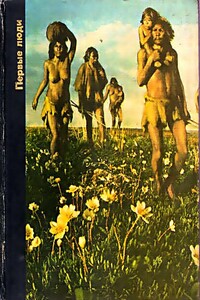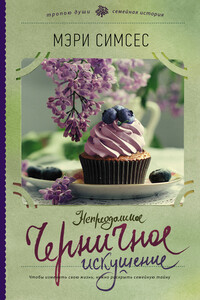Выйдя в тот день из директорского кабинета, я заметил, что ветер стал пронизывать насквозь снежными иглами. Быстро надвигался вечер. Он все время незримо присутствовал в тусклом свете дня, как и начавшийся снегопад. В тот пасмурный день снегопад ощущался, но был невидим. Внезапно вдоль аллеи вспыхнули фонари, и их сияние распалось на миллионы, миллионы огоньков. Возвращение в музыкальное здание не было ни похотливым, ни страшным — оно было торжественным. Я чувствовал себя танцором, не дотягивающим до своей роли, но вдохновленным царящим в окружающей темноте ожиданием. Или исторической личностью, королевой, идущей на эшафот и преисполненной решимости сделать обычные свои колкости, дать зрителям насмотреться на благородные деяния, которые им хочется видеть.
Мистер Битти уже вконец одурел. На лице его постоянно блуждала улыбка. Он принялся рассказывать мне длинную историю, за которой я не смог уследить — нечто о том, что кто-то некогда где-то ему сказал, — но потом он заметил, что мы уже переместились в кабинку для прослушивания. Свет он включать не стал. Темноту рассеивал свет, отражавшийся от сугробов и проникавший в окна. Битти поставил пластинку. Опустился в кресло, закурил очередную сигарету с марихуаной и выпустил дым в потолок. Когда он предложил мне затяжку, я с правдоподобной, как надеялся, нежностью улыбнулся и покачал головой. Мгновение спустя я уже стоял подле него на коленях. Расстегнув его ширинку, я вынул большой, уже вставший пенис. „Подожди, — сказал он, — я сделаю, чтобы тебе было удобнее“, — он расстегнул ремень и спустил брюки до колен. Я был прав: бедра у него оказались очень мощные. Он взял мою руку и направил ее к своим яичкам, в вяло болтающейся мошонке. Я догадался, что должен их повертеть.
Могу поклясться, что во мне не сверкнуло ни единого вольта желания. Задачу свою я выполнил. Я сымитировал возбуждение. Но когда мистер Битти попросил меня облизать ярко-красную залупу, провести языком вокруг головки его пениса, я был шокирован. Я забыл, что для него это действо не было таким же чисто символическим, как для меня. И вспомнил, что все это он считает удовольствием, как Ирод считал простой забавой танец Саломеи, пока не услышал, что именно требует она себе в награду.
Наконец все было кончено. Мистер Битти велел мне идти в столовую ужинать. Он намеревался пойти туда через несколько минут. Он решил, что нас не должны видеть вместе, на всякий случай.
Порой я думаю, что соблазнил и предал мистера Битти потому, что не каждый из этих поступков в отдельности, а лишь законченный цикл давал мне возможность заняться сексом с мужчиной, а потом отказаться и от того, и от другого. Такая последовательность идеально соответствовала моему несбыточному желанию полюбить мужчину, но не стать гомосексуалистом. Порой я думаю, что мне нравилось доставлять удовольствие мужчинам-гетеросексуалам (ведь мечтал же я стать любовником своего отца) и в то же время иметь возможность наказывать их за то, что они меня не любят. Меня не любили ни учитель немецкого, ни мистер Пуше. Меня не любил Томми. Меня не любил папа.
Битти приходился мне самым обычным другом, по крайней мере, сообщником, но к тому же он подменял собой всех прочих взрослых, этих чванливых, ленивых, бессердечных учителей (забавно, что в Итоне учителей иногда называли „хозяевами“). Я, обладавший столь незначительной властью, я, чьи триумфы были всего лишь локальными победами детей и женщин, то есть словесными победами иронии и позы, — я, наконец, сполна испил из источника взрослого секса. Я вытер рот тыльной стороной взрослой ладони и, мурлыча веселую песенку, направился в столовую.