История и повествование - [4]
Понятно, что подобные вопросы невозможно обсуждать без обращения к исторической психологии, дисциплине, по существу, табуированной в рамках структурно-семиотических подходов, характерных для московско-тартуской школы.
Такое ограничение в значительной степени было обусловлено опорой этого круга ученых на теоретическое наследие формализма, учившего искать в произведении не отражение психологии автора или, того хуже, героев, но способ поэтической организации материала. В соответствии с этой установкой биографический автор внеположен тексту произведения, а литературный персонаж представляет собой лишь специфический способ прикрепления имени собственного к фиксированному пучку мотивов и сюжетных функций, поэтому говорить об изучении их «психологии» заведомо не приходится[10]. Тем не менее, когда в рамках семиотики культуры разработанная формалистами техника поэтологического анализа применяется к анализу более широкого круга историко-культурных проблем и, в частности, бытового поведения, такой тип операциональной редукции утрачивает свою легитимность. В самом деле, если возможно согласиться с тем, что обсуждать психологические мотивации, например, повествователя и автора «Путешествия из Петербурга в Москву» заведомо неуместно при литературоведческом анализе «Путешествия…», то, работая, скажем, над биографией Радищева, эти вопросы в принципе нельзя обойти. Так, убедительность предложенного самим Лотманом истолкования самоубийства писателя зависит, в первую очередь, от нашего понимания его эмоций и мотивов.
В этом свете представляется необходимым не столько пересмотреть лотмановскую теоретическую модель, сколько дополнить ее, несколько расширив ее понятийный инструментарий. Прежде всего идея литературного поведения должна быть поддержана концепцией литературного переживания, в рамках которого те или иные жизненные события воспринимаются историческим персонажем на базе впечатлений, ранее почерпнутых им в художественных произведениях. Литературный текст, интерпретированный в контексте идеализированных представлений персонажа о себе самом, выступает здесь в качестве своего рода эмоциональной матрицы, задающей нормы переживания. Через такое переживание эти матрицы реализуются в соответствующих поведенческих реакциях: словах, жестах, поступках. Тем самым если поведение человека разворачивается как автонарратив[11], то в наборе его эмоциональных матриц оказывается свернут своего рода психологический протонарратив.
Очевидно, что подобный набор матриц вовсе не всегда будет иметь последовательный и, так сказать, сюжетный характер. Во-первых, соответствие так или иначе интерпретированного литературного образца идеализированным представлениям человека о себе может, по-видимому, быть полным и абсолютным только в редких случаях. Кроме того, к различных жизненных обстоятельствах определяющими могут оказаться различные, иногда противоречащие, а то и просто исключающие друг друга матрицы. Тем самым психологический протонарратив, хотя и заключает в себе потенцию к саморазвертыванию и потребность в нем, далеко не всегда бывает актуализирован в форме связного и считываемого поведенческого текста. В самой предварительной форме можно высказать предположение, что если способность к формированию психологических протонарративов имеет широкий, а в некоторых культурах, возможно, и универсальный характер, то развертывание сильных поведенческих автонарративов остается привилегией отдельных личностей, наделенных волей и даром к жизнестроительству. Именно к такого рода историческим деятелям и было, по преимуществу, привлечено исследовательское внимание Лотмана.
В свое время автору этих строк уже приходилось предлагать дополнить лотмановскую модель ролевого поведения идеей ситуационного литературного поведения, которое, не навязывая человеку единого связного амплуа, определяет его действия в различных жизненных коллизиях. Так, человек сентиментальной культуры ходит на кладбище с Юнгом и Греем, удаляется на природу с Томсоном и Делилем, уединяется с Циммерманом и т. д.[12] Однако задача дополнить семиотический анализ литературного поведения историко-психологическим в той давней рецензии еще не была поставлена, что, возможно, и позволило Лотману в одной из своих последних книг согласиться с этим уточнением[13].
Здесь, однако, с неизбежностью возникает вопрос, в какой мере уместно вообще ставить вопрос о реконструкции эмоциональной жизни людей минувших эпох. Историк может получить представление об эмоциях интересующих его исторических персонажей только на основании поведенческих артефактов первого (личные документы), а чаще второго (свидетельства современников) порядка. Действительно, делая записи в дневнике или, тем более, что-то рассказывая о себе другим, устно или письменно, человек совершает осознанный поведенческий жест, а проблема соотношения между эмоцией и ее словесным или жестовым оформлением как минимум неочевидна. Как известно, люди часто не отдают себе отчета в своих мотивах, действуют под влиянием более или менее бессознательных уловок, бывают не вполне искренни или вполне неискренни даже перед собой. Не следует ли, учитывая все эти обстоятельства, оставить сферу исторической психологии авторам романов, ограничив область научного анализа непосредственно наблюдаемыми формами поведения? В какой мере эмоциональные матрицы и психологические протонарративы могут вообще быть предметом корректного историко-культурного изучения?

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Поздняя проза Леонида Зорина (1924–2020) написана человеком, которому перевалило за 90, но это действительно проза, а не просто мемуары много видевшего и пережившего литератора, знаменитого драматурга, чьи пьесы украшают и по сей день театральную сцену, а замечательный фильм «Покровский ворота», снятый по его сценарию, остается любимым для многих поколений. Не будет преувеличением сказать, что это – интеллектуальная проза, насыщенная самыми главными вопросами – о сущности человека, о буднях и праздниках, об удачах и неудачах, о каверзах истории, о любви, о смерти, приближение и неотвратимость которой автор чувствует все острей, что создает в книге особое экзистенциальное напряжение.

Лев Толстой давно стал визитной карточкой русской культуры, но в современной России его восприятие нередко затуманено стереотипами, идущими от советской традиции, – школьным преподаванием, желанием противопоставить Толстого-художника Толстому-мыслителю. Между тем именно сегодня Толстой поразительно актуален: идея ненасильственного сопротивления, вегетарианство, дауншифтинг, требование отказа от военной службы, борьба за сохранение природы, отношение к любви и к сексуальности – все, что казалось его странностью, становится мировым интеллектуальным мейнстримом.

Запись программы из цикла "ACADEMIA". Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой славистики Оксфордского университета Андрей Леонидович Зорин рассказывает о трансформационном рывке в русской истории XIX века, принятии и осмыслении новых культурных веяний, приходящих с европейскими произведениями литературы и искусства.
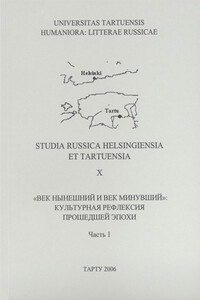
Очередная часть исследования финского литературоведа, посвященная творчеству Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962) и принципам имажинистского текста в контексте соотнесения с Оскаром Уальдом.

В центре внимания книги – идеологические контексты, актуальные для русского символизма в целом и для творчества Александра Блока в частности. Каким образом замкнутый в начале своего литературного пути на мистических переживаниях соловьевец Блок обращается к сфере «общественности», какие интеллектуальные ресурсы он для этого использует, как то, что начиналось в сфере мистики, закончилось политикой? Анализ нескольких конкретных текстов (пьеса «Незнакомка», поэма «Возмездие», речь «О романтизме» и т. д.), потребовавший от исследователя обращения к интеллектуальной истории, истории понятий и т. д., позволил автору книги реконструировать общий горизонт идеологических предпочтений Александра Блока, основания его полемической позиции по отношению к позитивистскому, либеральному, секулярному, «немузыкальному» «девятнадцатому веку», некрологом которому стало знаменитое блоковское эссе «Крушение гуманизма».

В книге доктора педагогических наук, почетного профессора МГМСУ имени А. И. Евдокимова, сделана попытка отказаться от стереотипов толкования религиозно-нравственного учения Толстого как «слабого мыслителя» и даже «якобы реакционного» (В. И. Ленин). Автор трактует религиозно-нравственное учение Л. Н. Толстого как науку о духовной жизни человека, устремленного к смыслу и ценностям. Исследовательским инструментом явилась педагогическая деятельность гениального провидца, проповедника и педагога Л. Н. Толстого, в которой впервые в науках о человеке в середине XIX-го столетия он предложил опираться не на философские, а на психологические категории.
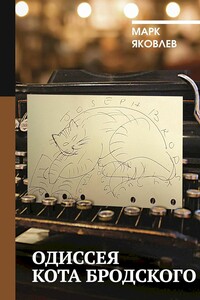
Марк Яковлев — автор пяти книг на русском, немецком и английском языках. Его предыдущая книга «Бродский и судьбы трех женщин» содержит литературно-биографические эссе о жизни и творчестве трех героинь, чьи судьбы пересекались с судьбой поэта и нобелевского лауреата Иосифа Бродского, а также эссе об уникальном спектакле Алвиса Херманиса «Бродский/Барышников». Книга, которую вы держите в руках, состоит из рассказов об одиссее любимого кота поэта Миссисипи по городам, где живут героини предыдущей книги, где были показаны спектакли Михаилом Барышниковым и где родился поэт Иосиф Бродский.
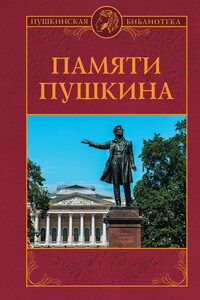
В книге представлены четыре статьи-доклада, подготовленные к столетию со дня рождения А.С. Пушкина в 1899 г. крупными филологами и литературоведами, преподавателями Киевского императорского университета Св. Владимира, профессорами Петром Владимировичем Владимировым (1854–1902), Николаем Павловичем Дашкевичем (1852–1908), приват-доцентом Андреем Митрофановичем Лободой (1871–1931). В статьях на обширном материале, прослеживается влияние русской и западноевропейской литератур, отразившееся в поэзии великого поэта.

В новой книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества.

Выдающийся филолог конца XIX – начала XX Фаддей Францевич Зелинский вводит читателей в мир античной мифологии: сказания о богах и героях даны на фоне богатейшей картины жизни Древней Греции. Собранные под одной обложкой, они станут настольной книгой как для тех, кто только начинает приобщаться к культурной жизни древнего мира, так и для её ценителей. Свои комментарии к книге дает российский филолог, профессор Гасан Гусейнов.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.