Испытание добром - [69]
— Я помню это. Что тебе нужно?
Он не хотел замечать унизительность создавшейся ситуации, пытался сделать вид, что не слышит, не понимает ни ее слов, ни ее взгляда… Из комнаты донесся приглушенный мужской голос… Или, может, это лишь показалось?
— Таня дома?
Людмила с притворным спокойствием зевнула:
— А почему это тебя интересует?
В комнате включили музыку на полную громкость, запись оркестра Кемпферта, пластинку, подаренную кем-то из однокурсников Андриану в день рождения,
— Я хочу повидаться с дочкой…
— За семь лет не насмотрелся? — Сказано это было спокойно, выразительно, без малейшего волнения в голосе.
— Не насмотрелся… — Андриан попытался улыбнуться.
— Зачем ты приехал?
Он протянул Людмиле сверток (в нем было пальто для Татьянки), она взяла его и с безразличным видом положила позади себя. Не поблагодарила, вообще ничего не сказала.
Андриан стоял и смотрел на женщину, с которой прожил восемь лет и которую по-настоящему любил… Любил? Да, прежде было…
Почувствовал, как последняя натянутая струна оборвалась в нем. Взялся рукой за дверную ручку… Людмиле показалось, что он вздумал все-таки войти, вся напряглась… Но Андриан просто оттолкнул ее грубо внутрь квартиры и захлопнул дверь. Долго стоял на полутемной площадке, приходя в себя. И потом пошел вниз…
— Почему не знаешь? — спросил Чародей. — Оттого что не хочешь знать?
— Оттого что не хочу знать… — выдавил наконец из себя.
Объектив телекамеры не сводил с него взгляда.
— Ты так ничего и не понял? — с удивлением спросил Чародей.
— Что я должен понять? — бросил Андриан раздраженно.
— Ты хочешь все забыть, стать равнодушным… Но еще не забыл и не охладел, хотя и стараешься уже несколько лет… Равнодушие — действительно надежная защита для некоторых, но для окружающих — сильнейший яд… Профессор, которого вы только что видели на экране, тоже стал равнодушным… Тебе известно, почему умерла Надя Стригаль? — спросил Чародей так, будто Надя была не его собственной выдумкой, а настоящим живым человеком.
— Она умерла? — воскликнул Андриан.
— Ты все еще никак не желаешь понять… И в то же время хочешь изменить природу человека к лучшему, мечтаешь вмешаться в генотип… Собственную болезнь стремишься лечить у вполне здоровых… Извини за откровенность… Но должен заверить, что равнодушие не является чертой характера или наследственным комплексом. Это одна из реакций самозащиты от утомления или от сложности проблем… Поверьте, даже я чувствую, как вы становитесь мне все более безразличны, и даже ты, Михаил… Вы ворвались ко мне среди ночи и изматываете меня, требуете ответа на такие сложные вопросы… Но я докончу… Равнодушие — это защита себя за счет других. Можешь, Андриан, воспользоваться мыслью о преимуществах людей, которые не рубят сплеча, которые каждый свой шаг подчиняют требованиям среды. Можешь оставить эту мысль как своеобразную программу для внутреннего пользования…
Мало того, могу с уверенностью утверждать, что этот тип людей лучше эгоцентристов… Но, уважаемый Андриан, ты сам к этому типу людей не принадлежишь…
Ты точь-в-точь такой же, как тот профессор, которого вы только что видели на экране. Но, знаешь ли, Андриан, чем ты пока отличаешься от него? Ты еще переживаешь, ты еще не стал равнодушным, а он уже защитился панцирем от всех трагедий даже близких для него людей… Тебя, Андриан, в последнее время что-то мучит. Не так ли? Это растет панцирь равнодушия. Ты становишься черепахой, Андриан. Это черствеет твоя душа, я пользуюсь привычными для вас словосочетаниями, а то я сказал бы иначе. Точнее говоря — ты накапливаешь заряд на бета-клеммах, спроси Михаила, он тебе объяснит, что это означает… И решай сам — хорошо это или плохо. Вообще можешь утешать себя тем, что черепахи долго живут, и тем, что вскоре ты сможешь искренне смеяться даже тогда, когда перед глазами твоими будет трагедия… Больше ничего не могу сказать… Я совершенно истощился… Оставьте меня… Надолго оставьте… Эти сутки я не буду работать, Михаил…
За окнами занимался серый рассвет.
— И не забудь купить яйца, — громко добавил после паузы. — Жена просила напомнить тебе.
Я В СЕРДЦЕ НЕ ДЕРЖАЛ ОБИДЫ[12]
Небольшой старинный колокол над входной дверью басовито и протяжно подал голос. Раз, потом еще второй.
Худощавый, средних лет мужчина сидел в мягком розовом кресле гостиничного номера и отрешенно-задумчивым взглядом наблюдал с высоты сорок второго этажа панораму города. Колокол пропел в третий раз, и мужчина, очнувшись, громко крикнул:
— Входите! Открыто!
Он продолжал смотреть в окно, пока не послышался позади него хриплый и взволнованный голос:
— День добрый. Вы — Самуил Борунь? Я не ошибаюсь?
— Да, — ответил мужчина и повернул к незнакомцу продолговатое морщинистое лицо. — Действительно, я Самуил Борунь.
— Простите за вторжение. Я журналист. Прошу вашего разрешения на короткую беседу, — он привычным движением, не глядя, достал из кармана фонограф, но садиться не спешил и не раздевался: на плечах его коричневой кожаной куртки и на пушистой шапке, которую он держал в руке, искрился снег.
— Садитесь. Что привело вас именно ко мне?
Журналист торопливо разделся.

На I–IV страницах обложки рисунки Юрия МАКАРОВА к повести «ИСКРИВЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО».На II странице обложки рисунок Геннадия КОМАРОВА к повести «БОЛЬШОЙ ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН».На III странице обложки рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА к роману «УМИРАТЬ — В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ».

Тесленко А. Искривленное пространство. Повести и рассказы / Худ. М. Турбовской. Москва: Молодая гвардия, 1988. — (Библиотека советской фантастики). — 272 стр. 75 к. 100 000 экз.Новая книга киевского фантаста Александра Тесленко в большой мере является продолжением его книги «Испытание добром». Автор вместе со своими героями, людьми и биокиберами, размышляет, подчас в гротескной и сатирической форме о подлинной гармонии человеческого существования, земного и космического, о необходимости постоянной борьбы за высокое звание Человека и мыслящего существа.
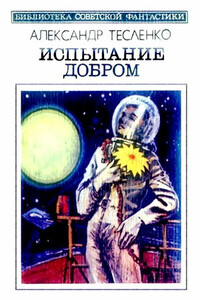
На планете Эдина прибывших переселенцев встретил прекрасный новый мир. А затем произошла трагедия. Неизученное блуждающее поле «Циклоп» стало причиной полной стерилизации всех шестисот тысяч человек и всего животного мира Эдины. И тогда Николиан Джерри предложил построить комбинат клонирования. Но биоматериалом для него могли быть только вытяжки из незараженных «Циклопом» организмов, то есть экипажей земных кораблей…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
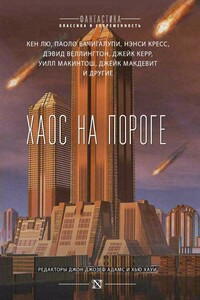
Герой-рассказчик построил свой маленький бизнес на ожидании близкого Апокалипсиса. Но, как и большинство проповедников, ни на грош не верил в собственные разглагольствования перед смиренной паствой… Рассказ входит в антологию «Хаос на пороге» (составители — Джон Джозеф Адамс, Хью Хауи), вышедшую в 2017 году в издательстве «АСТ».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
![Ордер на молодость [с иллюстрациями]](/storage/book-covers/1b/1bcfc6fc04219ed8786919c4325fd8f672904f35.jpg)
По достижении 60 лет каждый человек имеет право на омоложение и при этом может выбрать, кем он хочет стать в следующей жизни. Для этого можно изменить свои внешние данные, способности и привычки. Перед предстоящим омоложением архитектор Юш Ольгин долго размышлял, кем он хочет стать и что в себе исправить, а затем решил…
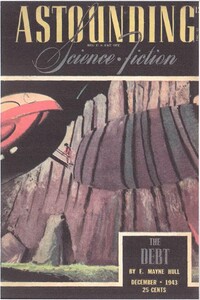
Вначале герой этого рассказа встретил странного незнакомца. А затем начались странные события и странные вещи...

Все дети повально увлечены новой игровой приставкой «цифертон». Перед игроком ставится задача повторять во всё усложняющемся порядке случайные комбинации мигающих огней и звуков. Комбинации вводят игроков в транс. Так что же такое цифертон на самом деле?
