Ислам и Запад - [3]
В настоящее время стало общим местом, что семантическому полю термина «ислам» в христианской культуре соответствуют два понятия — «христианство» и «христианский мир», т. е. не только религия в узком западном смысле, но и цивилизация, выросшая под ее эгидой. Кроме того, ислам — это и нечто более широкое, чему в западном христианском мире нет аналога, а в Византии есть лишь частично. Это политическая принадлежность и верность, превосходящая все прочие привязанности. В идеале всегда, а на короткое время и в реальности мир ислама был одним государственным образованием, где правил один суверен — халиф. Даже после упадка власти халифов и появления в разросшемся царстве ислама региональных монархий идея единого исламского государства была достаточно сильна для того, чтобы до сравнительно недавнего времени препятствовать появлению на местах сильных династических или национальных образований, какие начали возникать в Европе еще в Средние века.
Как показывают недавние события, идеал единого исламского государства, превалирующего над странами и народами, до сих пор притягателен для мусульман. Таким образом, оба понятия, «Европа» и «ислам», представляют собой первичные цивилизационные самоопределения обозначаемых ими общностей и могут восприниматься как сходные семантические поля, сравнение которых вполне уместно. Следовательно, нет и нужды считать разбор их взаимоотношений и восприятия ими друг друга асимметричным.
Хронологически христианство и ислам суть вторая и третья попытки создать мировую религию — первой был, разумеется, буддизм. С VI века до н. э. буддийские миссионеры из Индии несли свою веру в Южную, Юго-Восточную и Восточную Азию, где добились больших успехов. Куда меньшее воздействие оказали буддийские миссионеры на Юго-Западную Азию. Хотя влияние их было, вероятно, значительнее, чем традиционно считалось, им не удалось ни обратить кого бы то ни было в свою веру, ни создать какую-либо разновидность буддийской культуры. Религиозные учителя и вожди двух других древних народов, иудеев и персов, создали универсалистские понятия, сыгравшие в дальнейшем важнейшую роль, но ни те, ни другие не сделали ни одной серьезной попытки проповедать эти понятия другим народам или обратить их в свою веру. Мысль о том, что есть единая для всего человечества истина, и долг тех, кто ею обладает, разделить ее со всеми прочими, возникает с приходом христианства и вновь обретает силу с подъемом ислама. Обе религии зародились на Ближнем Востоке, и их общее наследие огромно: иудейские представления о монотеизме, пророчестве, откровении и писании, греческая философия и науки, римское право и управление, и, если копнуть глубже, сохранившиеся традиции еще более древних цивилизаций этого региона. Обеим религиям была свойственна новая, почти беспрецедентная идея о том, что они — единственные обладатели Господней истины. Общей, точнее оспариваемой друг у друга, была и их территория — Юго-Западная Азия, Северная Африка и европейское Средиземноморье.
Во многих отношениях средневековый ислам и средневековое христианство говорили на одном языке, причем до некоторой степени и в некоторых местностях даже в буквальном смысле. Во многих средиземноморских странах мусульмане и христиане не просто говорили на одних и тех же местных наречиях, но и в равной степени знали арабский. Общие концепции и общий словарный запас для их обозначения позволяли не только спорить друг с другом, но и переводить религиозные тексты. Средневековые монахи, переложившие на латынь Коран с единственной целью его отвергнуть, смогли осуществить перевод потому, что в латыни, к тому времени христианском языке, имелась соответствующая терминология. Напротив, когда новообращенные пытались перевести Коран с арабского на персидской, турецкий или индийские языки, им приходилось заимствовать и слова, поскольку в этих языках, как и в культурах, выразителями которых они являлись, отсутствовали либо нужные понятия, либо соответствующие термины.
Ислам и христианский мир, говорившие, по крайней мере в переносном смысле, на одном языке, использовавшие одни и те же методы спора и убеждения, приверженные одним и тем же или сходным представлениям о том, что есть религия, могли, тем не менее, существенно расходиться во мнениях. Между христианами и мусульманами, как и между теми и другими и иудеями, возникали разногласия, невозможные между мусульманскими и христианскими богословами, с одной стороны, и представителями иных азиатских религий — с другой. Когда христиане и мусульмане называли друг друга неверными, каждый понимал, что имеет в виду оппонент, поскольку имели они в виду примерно одно и то же, в чем и проявлялось их глубинное сходство.
Христианство и ислам были последовательными, а не одновременными заветами, которые разделяли шесть веков.
Пророки и проповедники, законоведы и богословы, несомненно, проводили резкую грань между предшествующей и последующей религиями, чем и объясняется столь разительный иногда контраст между отношением христиан и мусульман друг к другу и между отношением тех и других к иудеям. Для христиан иудаизм был предшествующей религией: несовершенной, отвергнутой, доведенной до совершенства только сменившим ее христианством, но не лжеучением как таковым. Соответственно к иудеям в средневековой Европе относились до некоторой степени терпимо. Терпимость эта была всегда ограниченна, часто ненадежна, действие ее могло быть приостановлено, но все же иудеи как-то выживали. Мусульманам такое не удавалось: христиане, отвоевав Сицилию, Испанию и Португалию, либо сразу, либо через некоторое время изгоняли или насильно обращали в христианство мусульманское население. И мусульмане, и христиане были одинаково убеждены не только в том, что обладают всей полнотой Божественной истины, но и в том, что им, и только им, она была явлена окончательно и бесповоротно. Все последующее с необходимостью оказывалось вредоносным лжеучением и терпимо быть не могло. Для мусульман в некогда потерянных и отвоеванных землях христианского мира места не было. Даже Венецианская республика, жившая доходами от левантийской торговли, с огромным трудом терпела единственный постоялый двор для приезжавших турецких купцов.
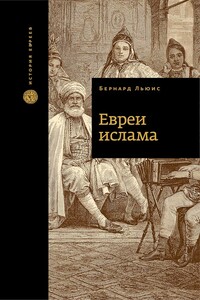
Книга Бернарда Льюиса (1916–2018) «Евреи ислама» полемизирует с двумя противоположными подходами к еврейской истории: ламентационным (вся история евреев — сплошная череда страданий, преследований и погромов) и идеализаторским (евреи были гармоничной составной частью общей политической, экономической, религиозной и культурной инфраструктуры стран их пребывания). Избегая крайностей как первого, так и второго подхода, Льюис, опираясь на исторические свидетельства и предлагая убедительные трактовки, создает широкую панораму истории евреев в исламском мире на протяжении полутора тысячелетий.
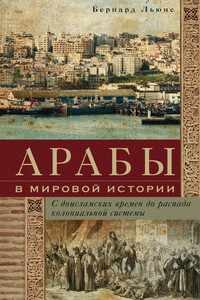
В классическом исследовании Бернарда Льюиса, одного из ведущих историков-востоковедов мира, рассматривается само понятие «араб» и место арабского народа в мировой истории с доисламских времен до победы движения за независимость и суверенитет в середине XX столетия. Автор прослеживает зарождение ислама и сопровождавшие его политические, религиозные и общественные события, превратившие разрозненные арабские племена в исламскую империю, и анализирует внутренние и внешние факторы, сформировавшие современный арабский мир.
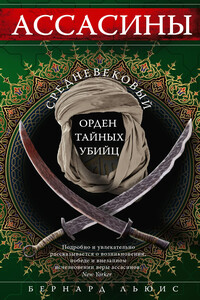
Ученый с мировым именем, специалист по истории ислама, Ближнего Востока и взаимоотношений между исламом и Западом, профессор Принстонского университета Бернард Льюис в настоящей книге прослеживает историю радикальной исламской секты, ассасинов, явившейся первой группировкой людей, которые начали использовать убийство в качестве политического оружия. Упрочившись в Иране и Сирии в XI и XII веках, они поставили перед собой цель – свергнуть существовавший суннитский порядок в исламе и заменить его своим собственным, терроризируя своих врагов страшными убийствами лидеров ислама и некоторых крестоносцев, из-за чего в Европе и стали известны их название и репутация. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
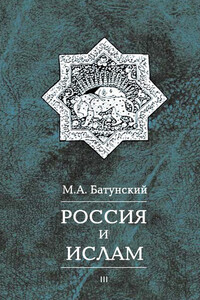
Работа одного из крупнейших российских исламоведов профессора М. А. Батунского (1933–1997) является до сих пор единственным широкомасштабным исследованием отношения России к исламу и к мусульманским царствам с X по начало XX века, публикация которого в советских условиях была исключена.Книга написана в историко-культурной перспективе и состоит из трех частей: «Русская средневековая культура и ислам», «Русская культура XVIII и XIX веков и исламский мир», «Формирование и динамика профессионального светского исламоведения в Российской империи».Используя политологический, философский, религиоведческий, психологический и исторический методы, М.
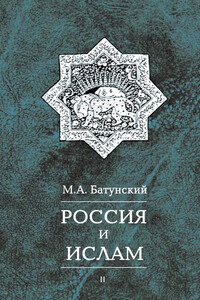
Работа одного из крупнейших российских исламоведов профессора М. А. Батунского (1933–1997) является до сих пор единственным широкомасштабным исследованием отношения России к исламу и к мусульманским царствам с X по начало XX века, публикация которого в советских условиях была исключена.Книга написана в историко-культурной перспективе и состоит из трех частей: «Русская средневековая культура и ислам», «Русская культура XVIII и XIX веков и исламский мир», «Формирование и динамика профессионального светского исламоведения в Российской империи».Используя политологический, философский, религиоведческий, психологический и исторический методы, М.
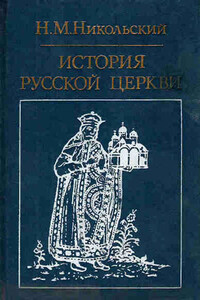
«Историю русской церкви» Н. М. Никольского отличает не только правильный методологический подход к критике религиозной идеологии и освещению событий церковной жизни дореволюционной России, но и научная обстоятельность авторского анализа данных событий. Ей присуща полнота и глубина охвата основных вопросов сложной темы, каковой является история русского православия, насыщенность большим и разнообразным фактическим материалом, что даст возможность современным исследователям и пропагандистам научного атеизма пользоваться «Историей русской церкви» как ценным справочным пособием.

Многие христианские работники и студенты Библейского Института (на дому) просили нас издать книгу, которая бы в доступной форме излагала спорные вопросы, возникающие вокруг Библии. Идея встретила наше полное сочувствие, так как переживаемое время выдвинуло на первый план необходимость обоснованного сопротивления безбожию, — но задача оказалась не легкой, потому что совсем невозможно было собрать необходимые материалы по русским источникам. Таковых вообще за границей не оказалось. Поэтому пришлось прибегнуть во многих случаях к цитированию трудов английских и других европейских ученых.
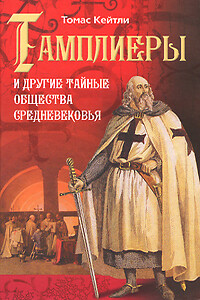
В книге на широком историческом материале рассказывается о развитии средневековых тайных обществ, созданных людьми, которые стремились освоить и применить на практике мистические знания, далеко выходившие за пределы догм их вероучения, отображены источники их конфликтов с правящими кругами. Это и тамплиеры – воинствующие монахи, которые доказывали преданность своей религии и ее истинность силой оружия, и ассасины – первый монашеский военный орден в исламе, который, распространяя свое вероучение, устранял на занятой им территории руками мулахидов, фанатиков-убийц, мусульман и христиан без особого разбора.Помимо тамплиеров и ассасинов, это историческое исследование повествует о тайных трибуналах Вестфалии, известных также как суды фемы – своеобразные комитеты бдительности граждан, вершивших тайный суд и неукоснительно приводивших в исполнение приговоры в Средние века, когда в Германии царило беззаконие.Ставшее классическим исследование английского историка Томаса Кейтли, отличающееся глубоким проникновением в тему, представляет интерес для всякого любознательного и пытливого современника.
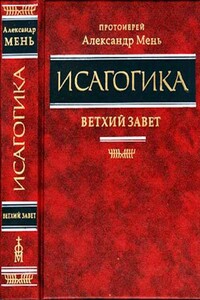
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
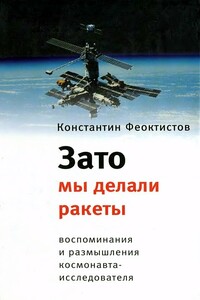
Константин Петрович Феоктистов — инженер, конструктор космических кораблей, один из первых космонавтов.Его новая книга — увлекательный рассказ о становлении космонавтики и о людях, чьи имена вписаны в историю освоения космоса. Но главная озабоченность К. П. Феоктистова — насущные проблемы человечества. Своими размышлениями о подходах к решению глобальных задач настоящего и ближайшего будущего делится с читателями автор.
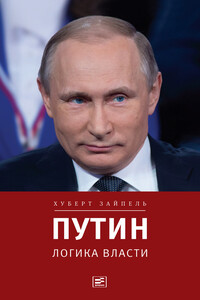
«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.
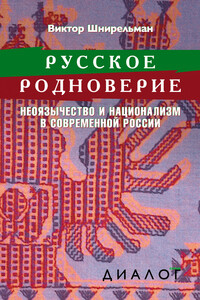
Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.
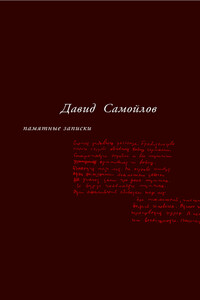
В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)