Искренность после коммунизма. Культурная история - [9]
Когда оказывается возможно назвать «постмодернистским» убранство комнаты, облик здания, стилистику фильма, композицию аудиоальбома или «скретч-видео», телевизионную рекламу или документальный фильм (или «интертекстуальные» отношения между ними), макет страницы в модном журнале или в критическом издании, антителеологическую тенденцию в рамках эпистемологии, опровержение «метафизики присутствия», общее притупление чувств, коллективное уныние, мрачные прогнозы о будущем послевоенного поколения «беби-бумеров», которые испытывают разочарования, свойственные людям средних лет, «проблему» рефлексивности, ряд риторических тропов, «культ поверхностности», новую фазу товарного фетишизма, зачарованность образами, кодами и стилями, процесс культурной, политической или экзистенциальной фрагментации и/или кризис, «децентрацию субъекта», «недоверие к метанарративам», замену единых силовых осей множеством силовых/дискурсивных формаций, «подрыв значения», коллапс культурных иерархий, страх ядерного самоуничтожения, упадок университетов, функционирование и воздействие новых миниатюризированных технологий, крупные сдвиги в обществе и экономике в направлении «медийной», «потребительской» или «мультинациональной» фазы, чувство (в зависимости от того, о ком вы читаете) «безместности» или отказа от нее («критический регионализм») или (даже) общей подмены темпоральных координат пространственными — когда оказывается возможно назвать все эти вещи «постмодерными» (или для простоты использовать сокращение «пост» или «постпост»), — тогда становится ясно, что перед нами модное словечко[72].
Хебдиджу явно доставляет удовольствие растягивать свой список до бесконечности. И в этом его стилистика резко отличается от той, к которой склонны приверженцы возрожденной искренности. Они предпочитают куда более короткий — и, как правило, карикатурно утрированный — перечень отвергаемых ими характеристик постмодернизма: излишний релятивизм, цинизм, насмешливость, вседозволенность и этическое безразличие.
На место этих «уродливо постмодернистских» черт апологеты новой искренности предлагают некую культурную альтернативу. Как формулирует наиболее известный из российских провозвестников возрождения искренности, культуролог Михаил Эпштейн, они защищают эстетику, которая «определяется не искренностью автора и не цитатностью стиля, но именно взаимодействием того и другого, с ускользающей гранью их различия, так что и вполне искреннее высказывание воспринимается как тонкая цитатная подделка, а расхожая цитата звучит как пронзительное лирическое признание»[73].
Это определение было предложено Эпштейном в 1999 году, однако оно сильно напоминает риторику, появившуюся гораздо раньше — в 1950‐х годах — в эпоху, к которой я вернусь в первой главе. Эпштейн утверждает, что новоискренняя эстетика возрождает и переоценивает «такие любимые в годы оттепели слова, как „душа“, „слеза“… „красота“… „правда“ и „царствие Божие“». Эти слова, считает он, обросли «спесью и чопорностью» в результате многовековой традиции официального употребления, но, пройдя «через периоды революционного умерщвления и карнавального осмеяния… теперь возвращаются в какой-то трансцендентной прозрачности, легкости, как не от мира сего»[74].
В словах Эпштейна трудно не заметить налет мистицизма. Не вызывает сомнений и то, что его трактовка термина «новая искренность» не стала непосредственным источником вдохновения для всех и каждого: в онлайн-письме, например, это понятие часто выступает не как тщательно продуманный теоретический концепт, а как поведенческая модель («Выставляя свою внутреннюю жизнь на всеобщее обозрение в сети, я воплощаю ранее неслыханную искренность») или как маркер идентичности («Я адепт новой искренности — вот почему я люблю певца А или поэта Б»).
Эпштейн — важный, но не единственный голос в этой дискуссии. Как мы увидим в последующих главах, теоретики российской новой искренности до сих пор продолжают переопределять ее как продукт новой медийной или массмедийной культуры и постсоциализма. Однако Эпштейн чутко уловил суть как русскоязычной, так и глобальной риторики новой искренности. Он указал на то, что центральное место в этой риторике занимает дискурсивный жест честного самораскрытия (честен ли при этом художник в действительности — это другой вопрос; значение имеет его приверженность приему эмоциональной прозрачности).
Предложенное Эпштейном описание доказывает также и то, что разговор о новой искренности нельзя отделять от более широкой дискуссии, которую можно свести к вопросу: «Завершен ли постмодернизм, и если да, то что следует за ним?» Этот вопрос вращается вокруг тезиса, который одни продвигают, а другие опровергают: приемы (раннего) постмодернизма уже исчерпали себя и их постепенно вытесняют новые культурные тренды.
В Университете Амстердама мы с группой литературоведов и историков философии занимались сравнительным анализом этого «постпостмодернистского» дискурса[75]. Коллектив, включавший специалистов по американской, британской, французской, русской, боснийской, немецкой, польской, норвежской и голландской культурам, составил список ключевых слов, которые в предельно концентрированном виде отражают «мышление за пределами постмодерна». В список вошли следующие понятия: «ирония», «релятивизм», «этика», «ангажированность», «метафикшн», «подлинность», «искренность», «сентиментализм», «возвращение „я“», «нарративность», «регионализм» и сам «постмодернизм»

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
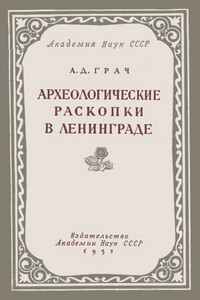
Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.