Искренность после коммунизма. Культурная история - [15]
К этому подходу имеет отношение и другой повлиявший на мое исследование тезис: взгляд на литературу как на поле конкурирующих сил — концепция, предложенная Пьером Бурдьё и Жизель Сапиро в социологических работах, посвященных французской литературе[110]. Такие исследователи, как Михаил Берг, Биргит Менцель и Эндрю Вахтель, успешно перенесли предложенный Бурдьё синтез институционального и литературного анализа на постсоветскую культуру[111]. Их подход позволяет рассматривать искренность не столько как интратекстуальный мотив, сколько как эмоциональную технику, которую авторы и критики могут использовать при позиционировании себя и других на интеллектуальной арене. Как будет показано в третьей главе, я не единственная, кто приветствует подобный подход. Идеи Бурдьё, помогавшие мне интерпретировать постсоветские дискурсы искренности, сами являются неотъемлемой частью тех же дискурсов. Именно на эти идеи опираются и исследователи Сорокина, когда размышляют о его гимнах искренности.
Давая обзор дебатов об искренности и расчете, я не просто предлагаю путеводитель по дискуссиям об искренности, которые велись на рубеже XX и XXI веков. В третьей главе к русскоязычному контексту применяется подход Розенбаум, разработанный на англоязычном материале, и предлагаются новые размышления о творчестве в постсоветскую эпоху. Эта глава, как и предыдущая, указывает на необходимость придавать большее значение феномену искренности в теоретизировании о постмодернизме. В самой главе я объясняю, зачем это необходимо, но в данном предисловии хотела бы коснуться другой (связанной с этим) необходимости.
Существующие исследования постсоветского литературного поля внесли большой вклад в углубление нашего понимания как самого этого поля, так и социоэкономических процессов, стоящих за литературными и другими творческими практиками. Они внесли также определенный вклад в решение важного вопроса о стратегиях художников, приспосабливающихся к социальным обстоятельствам, — и они расширили понимание литературы и искусства как символического и экономического капитала. Однако есть область, которой они не касались или затрагивали лишь косвенно. Это сфера эмоций[112]. Какая художественная стратегия приспособления к обстоятельствам действует в данном случае? Какой культурный объект приобретает символический или экономический капитал? Невозможно дать ответы на подобные вопросы, не принимая во внимание то, как данный культурно-исторический период формируется существующими аффективными нормами, сообществами и режимами. В третьей главе, оспаривая устоявшиеся подходы к постсоветскому литературному рынку, я предлагаю уделить пристальное внимание аффективным категориям. Спор с устоявшимися подходами включает переоценку эмоций и придание им статуса ведущей силы в процессах творческого производства и потребления.
ИСКРЕННОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ В (ПОСТ)ДИГИТАЛЬНОМ МИРЕ
В постсоветской России обсуждение вопросов искренности и коммодификации достигло особого накала в конце 1990‐х — начале 2000‐х годов, когда в стране начала укореняться рыночная экономическая система. Начиная с этого времени в результате коммерциализации обозначилась третья из проблем, связанных с искренностью: проблема медиализации. Она соотносится с третьим из вопросов, которые я ставлю в этой книге: как «новая искренность» в глазах ее адептов соотносится с бурным ростом цифровых медиа?
Как и в случае проблемы «искренность и память», не вызывает сомнения само существование связи между искренностью и СМИ. Начиная с эпохи раннего модернизма высказываются мнения о том, что новые технологии (печатные, звуковые и др.) либо отдаляют нас от непосредственного самовыражения, либо порождают более искренние способы коммуникации. Эти часто повторявшиеся в прошлом заявления (их подробный обзор я даю в первой главе) стали вновь повсеместно распространяться по мере того, как в начале 2000‐х годов широкую популярность начали приобретать социальные медиа. Их изучение существенно для понимания нашей эпохи как «постдигитальной». Это понятие ученые и практики используют для теоретического осмысления (здесь я цитирую описывающую данную парадигму работу Дэвида Берри и Майкла Дитера) «нашей недавно компьютеризированной повседневности», где офлайновое и онлайновое тесно переплетены, а дигитальность является уже нормой, а не инновацией. Тезис о том, что именно (пост)дигитальные медиа открывают путь для подлинного общения, воспроизводит, например, американский критик София Лейби, утверждая: «Интернет — не место для утаивания, иронии, холодности и ностальгии, интернет делает нас искренними, открытыми, теплыми и гуманными»

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Пособие для студентов-заочников 2-го курса исторических факультетов педагогических институтов Рекомендовано Главным управлением высших и средних педагогических учебных заведений Министерства просвещения РСФСР ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ, Выпуск II. Символ *, используемый для ссылок к тексте, заменен на цифры. Нумерация сносок сквозная. .
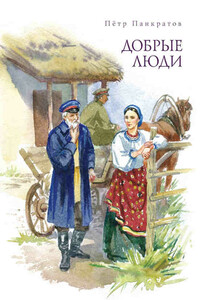
В книге П. Панкратова «Добрые люди» правдиво описана жизнь донского казачества во время гражданской войны, расказачивания и коллективизации.
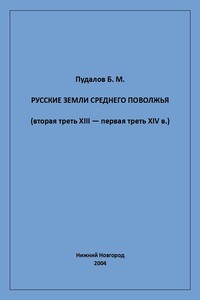
В книге сотрудника Нижегородской архивной службы Б.М. Пудалова, кандидата филологических наук и специалиста по древнерусским рукописям, рассматриваются различные аспекты истории русских земель Среднего Поволжья во второй трети XIII — первой трети XIV в. Автор на основе сравнительно-текстологического анализа сообщений древнерусских летописей и с учетом результатов археологических исследований реконструирует события политической истории Городецко-Нижегородского края, делает выводы об административном статусе и системе управления регионом, а также рассматривает спорные проблемы генеалогии Суздальского княжеского дома, владевшего Нижегородским княжеством в XIV в. Книга адресована научным работникам, преподавателям, архивистам, студентам-историкам и филологам, а также всем интересующимся средневековой историей России и Нижегородского края.

В книге финского историка А. Юнтунена в деталях представлена история одной из самых мощных морских крепостей Европы. Построенная в середине XVIII в. шведами как «Шведская крепость» (Свеаборг) на островах Финского залива, крепость изначально являлась и фортификационным сооружением, и базой шведского флота. В результате Русско-шведской войны 1808–1809 гг. Свеаборг перешел к Российской империи. С тех пор и до начала 1918 г. забота о развитии крепости, ее боеспособности и стратегическом предназначении была одной из важнейших задач России.
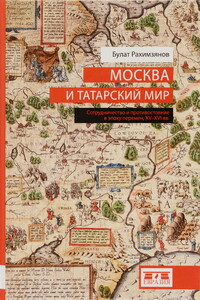
В числе государств, входивших в состав Золотой Орды был «Русский улус» — совокупность княжеств Северо-Восточной Руси, покоренных в 1237–1241 гг. войсками правителя Бату. Из числа этих русских княжеств постепенно выделяется Московское великое княжество. Оно выходит на ведущие позиции в контактах с «татарами». Работа рассматривает связи между Москвой и татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды (Большой Ордой и ее преемником Астраханским ханством, Крымским, Казанским, Сибирским, Касимовским ханствами, Ногайской Ордой), в ХѴ-ХѴІ вв.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.