Искра - [9]
Я думал, неужели Искра, всегда верно оценивающая нас, мальчишек, забыла, как поступал Серега в давние, теперь уже казалось, очень давние времена, в те, еще первые удивительные дни, когда Искра вошла в наше мальчишеское братство. У Искры бывали мгновения каких-то странных желаний, когда все чем жила она, как будто переставало для нее быть.
От какой-то непонятной причины она вдруг вскакивала, взглядом, руками, всем своим гибким телом устремлялась ввысь, как будто старалась оторваться от земли, и вся трепетала в эти мгновения, как на ветру огонь. Так же вдруг она могла превратиться в дикого мустанга с раздутыми ноздрями и вздыбленной гривой, готового ринуться со скал в пропасть. И когда мы видели ее такой, мы замирали от восторга и влюбленности и готовы были ринуться за Искрой хоть волку в пасть.
Помню, играли мы однажды в песчаном карьере. Искру как будто возбудил знойный, рвущийся поверх лесов ветер.
Она сузила глаза, слегка раздула ноздри, как всегда делала, готовясь к чему-то необычайному, и вдруг повелела Леньке-Леничке:
— Если я дорога тебе, прыгни с этой кручи. В самый-самый низ!..
Ленька-Леничка, отроду неторопливый, удивленно посмотрел на Искру, пожал плечом, пошел на край обрыва прикинуть саму возможность прыжка.
Серега, бывший тут же, молча поднялся, разбежался, взлетел над откосом. Мы вскочили, смотрели, как, ударившись ногами в крутой склон, он опрокинулся, долго катился в облаке пыли, мелькая рубахой, штанами, босыми ногам, и только в самом низу, влетев в головокружительном падении в образовавшееся на дне заросшее камышом озерцо, скрылся от наших взглядов.
Мы ринулись на спинах по откосу вниз, не чая увидеть Серегу живым. Он поднялся нам навстречу, мокрый, измазанный, в разорванной рубахе, с разбитым лбом. Морщась от боли, улыбаясь в неловкости, он как будто не видел нас, он смотрел на Искру.
Искра подошла к нему близко, так близко, как никогда ни к кому не подходила, я думал, сейчас, на наших глазах, она его поцелует. Но Искра только пригладила ладошкой его волосы, приклонила Серегу к воде, заботливо смыла грязь и кровь с его лица, обмыла его руки, ноги, и Серега покорно, будто малый ее братик, принял взрослую, завидную нам, ее заботу. И странно, мы были при том, мы всё видели, и никто из нас даже не хмыкнул в извечном нашем пренебрежение ко всякого рода телячьим нежностям.
Таков был Серега, для Искры он готов был на все. Так почему, почему забыла о том Искра?..
Как-то, в темках уже, кто-то стукнул в окно нашей избы условным стуком. Я выскочил. У крыльца стоял Серега.
— Беда, Санька, — сказал он, голос его пресекся, я слышал, как сглотнул он слюну. — Скажи Искре, чтоб уходила. Совсем из деревни чтоб уходила. Пусть похужее оденется, под Рудню к бабке идет…
Серега был угрюм, все поглядывал то в один конец улицы, то в другой, как будто за ним следили. Мне сделалось не по себе.
— Что случилось-то? — потребовал я разъяснений, стараясь быть с ним суровым, как с отступником.
Серега как-то весь сжался, опустил голову.
— Дряно дело, — сказал он всегда тревожное свое словечко. Совсем дряно… Следил я за Тимкой-Кривым. Подслушал, как говорил с ним носатый полицай из Сходни. Тот, носатый, спрашивает, остались ли в деревне красивые девки. Чтоб, это… самое… Ну, чтоб летчиков с аэродрома веселить… Дряно они сказали. Я не могу так. Страшно это, Санька! А сволота эта, Кривой Тимофей, зарадовался услужить. Есть, говорит, три. Верку Сонину назвал, Зинку Горячеву. И вот, Искру…
Убить гада мало… Тимофей сказал, что приведет девок в Сходню, к коменданту. Будто бы для допросу. А там… Зинке и Верке я сам скажу. А ты, давай, Искру спасай. Понял? Что хотите делайте. Но до Искры чтоб никто не дотронулся!..
Мне стало страшно, до дрожи страшно.
Утром, как мог, я все рассказал Искре. Она слушала, мягкие губы ее, на которые все время хотелось смотреть, подрагивали в какой-то странной усмешке, как будто то страшное, о чем я говорил, угрожало не ей.
— Санечка, — сказала Искра с какой-то даже ласковостью, уж совсем неуместной в тревожном разговоре. — Знай, Санечка, из Речицы я не уйду. Никуда! И никогда! Никогда! — повторила она. Глаза ее потемнели, как темнеет под надвигающейся тучей зелень лесов, она сощурилась, как в карьере, когда прижала к плечу пулемет.
— Ты должен знать, Санечка… Если кто задумает меня обидеть, умрет вместе со мной. Вот под этим кинжалом!
Она прижала руку к груди, неожиданно быстрым движением выхватила из-под платья сверкнувший сталью нож. Я узнал этот узкий острый финский нож, мы взяли его вместе с пулеметом из коляски подбитого мотоцикла.
— Вот так, Санечка, — сказала Искра, сказала с такой обдуманной твердостью, что я, пытаясь, возразить, на полуслове замолк.
Искра убрала нож в чехол, пришитый к матерчатому поясу под платьем, смотрела задумчиво и насмешливо через окно в улицу, откуда могла прийти беда. А я с горечью взрослого подумал, как ничтожно это ее оружие против того, что грозило ей!
А на следующее утро в окно нашей избы ворвался с давно притихшей, без криков петухов и собачьего лая, улицы сухой треск длинной автоматной очереди.

Владимир Григорьевич всегда пресекал попытки поиска строгой автобиографичности в своих произведениях. Он настаивал на праве художника творить, а не просто фиксировать события из окружающего мира. Однако, все его произведения настолько наполнены личными впечатлениями, подмеченными и бережно сохраненными чуткой и внимательной, даже к самым незначительным мелочам, душой, что все переживания его героя становятся необычайно близкими и жизненно правдоподобными. И до сих пор заставляют читателей сопереживать его поискам и ошибкам, заблуждениям и разочарованиям, радоваться даже самым маленьким победам в нелёгкой борьбе за право стать и оставаться Человеком… И, несмотря на то, что все эти впечатления — длиною в целую и очень-очень непростую жизнь, издатели твёрдо верят, что для кого-то они обязательно станут точкой отсчёта в новом восприятии и понимании своей, внешне непохожей на описанную, но такой же требовательной к каждому из нас Жизни…
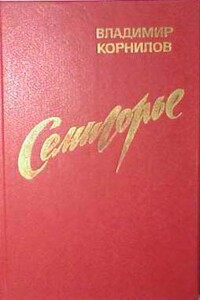
Вниманию сегодняшних читателей представляется первая Интернет-публикация первой книги из знаменитой трилогии писателя («Семигорье», «Годины», «Идеалист»), которая с успехом выдержала более шести переизданий. Ибо именно этот роман, как и его герои, всегда и по праву оставался наиболее востребованным и любимым читателями самых разных категорий и возраста.Он начинает повествование о разных и увлекательных судьбах своих героев на фоне сложных и противоречивых событий, происходящих в нашей стране на протяжении середины и до конца прошлого XX века.

Владимир Григорьевич всегда пресекал попытки поиска строгой автобиографичности в своих произведениях. Он настаивал на праве художника творить, а не просто фиксировать события из окружающего мира. Однако, все его произведения настолько наполнены личными впечатлениями, подмеченными и бережно сохраненными чуткой и внимательной, даже к самым незначительным мелочам, душой, что все переживания его героя становятся необычайно близкими и жизненно правдоподобными. И до сих пор заставляют читателей сопереживать его поискам и ошибкам, заблуждениям и разочарованиям, радоваться даже самым маленьким победам в нелёгкой борьбе за право стать и оставаться Человеком… И, несмотря на то, что все эти впечатления — длиною в целую и очень-очень непростую жизнь, издатели твёрдо верят, что для кого-то они обязательно станут точкой отсчёта в новом восприятии и понимании своей, внешне непохожей на описанную, но такой же требовательной к каждому из нас Жизни…

Владимир Григорьевич всегда пресекал попытки поиска строгой автобиографичности в своих произведениях. Он настаивал на праве художника творить, а не просто фиксировать события из окружающего мира. Однако, все его произведения настолько наполнены личными впечатлениями, подмеченными и бережно сохраненными чуткой и внимательной, даже к самым незначительным мелочам, душой, что все переживания его героя становятся необычайно близкими и жизненно правдоподобными. И до сих пор заставляют читателей сопереживать его поискам и ошибкам, заблуждениям и разочарованиям, радоваться даже самым маленьким победам в нелёгкой борьбе за право стать и оставаться Человеком… И, несмотря на то, что все эти впечатления — длиною в целую и очень-очень непростую жизнь, издатели твёрдо верят, что для кого-то они обязательно станут точкой отсчёта в новом восприятии и понимании своей, внешне непохожей на описанную, но такой же требовательной к каждому из нас Жизни…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Григорьевич всегда пресекал попытки поиска строгой автобиографичности в своих произведениях. Он настаивал на праве художника творить, а не просто фиксировать события из окружающего мира. Однако, все его произведения настолько наполнены личными впечатлениями, подмеченными и бережно сохраненными чуткой и внимательной, даже к самым незначительным мелочам, душой, что все переживания его героя становятся необычайно близкими и жизненно правдоподобными. И до сих пор заставляют читателей сопереживать его поискам и ошибкам, заблуждениям и разочарованиям, радоваться даже самым маленьким победам в нелёгкой борьбе за право стать и оставаться Человеком… И, несмотря на то, что все эти впечатления — длиною в целую и очень-очень непростую жизнь, издатели твёрдо верят, что для кого-то они обязательно станут точкой отсчёта в новом восприятии и понимании своей, внешне непохожей на описанную, но такой же требовательной к каждому из нас Жизни…
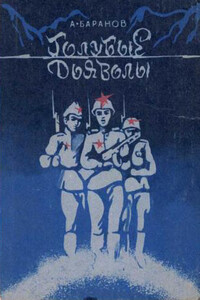
Повесть о боевых защитниках Моздока в Великую Отечественную войну, о помощи бойцам вездесущих местных мальчишек. Создана на документальном материале. Сюжетом служит естественный ход событий. Автор старался внести как можно больше имен командиров и солдат, героически сражавшихся в этих местах.

Известный военный хирург Герой Социалистического Труда, заслуженный врач РСФСР М. Ф. Гулякин начал свой фронтовой путь в парашютно-десантном батальоне в боях под Москвой, а завершил в Германии. В трудных и опасных условиях он сделал, спасая раненых, около 14 тысяч операций. Обо всем этом и повествует М. Ф. Гулякин. В воспоминаниях А. И. Фомина рассказывается о действиях штурмовой инженерно-саперной бригады, о первых боевых делах «панцирной пехоты», об успехах и неудачах. Представляют интерес воспоминания об участии в разгроме Квантунской армии и послевоенной службе в Харбине. Для массового читателя.

Генерал Георгий Иванович Гончаренко, ветеран Первой мировой войны и активный участник Гражданской войны в 1917–1920 гг. на стороне Белого движения, более известен в русском зарубежье как писатель и поэт Юрий Галич. В данную книгу вошли его наиболее известная повесть «Красный хоровод», посвященная описанию жизни и службы автора под началом киевского гетмана Скоропадского, а также несколько рассказов. Не менее интересна и увлекательна повесть «Господа офицеры», написанная капитаном 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка Константином Сергеевичем Поповым, тоже участником Первой мировой и Гражданской войн, и рассказывающая о событиях тех страшных лет.

Книга повествует о жизни обычных людей в оккупированной румынскими и немецкими войсками Одессе и первых годах после освобождения города. Предельно правдиво рассказано о быте и способах выживания населения в то время. Произведение по форме художественное, представляет собой множество сюжетно связанных новелл, написанных очевидцем событий. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся Одессой и историей Второй Мировой войны. Содержит нецензурную брань.

В августе 1942 года автор был назначен помощником начальника оперативного отдела штаба 11-го гвардейского стрелкового корпуса. О боевых буднях штаба, о своих сослуживцах повествует он в книге. Значительное место занимает рассказ о службе в должности начальника штаба 10-й гвардейской стрелковой бригады и затем — 108-й гвардейской стрелковой дивизии, об участии в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Для массового читателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.