Иосиф Бродский: Американский дневник - [125]
Возвращаясь ко сну, о котором Бродский рассказывает в шестой главе "Путешествия в Стамбул", можно предположить, что Петербург для поэта ассоциировался с профессором Максимовым, в то время как остальная Россия скрывала в себе и Ли Марвина.
В "Путешествии в Стамбул" Бродский избегает прямых сопоставлений между Византией и Российской империей. Его рассуждения о сходстве между двумя системами имеют отвлеченнотеоретический характер, как и описание особенностей образа жизни на западе. Если теория не опирается на практику — на реальность, она всегда уязвима, и Бродский, как никто другой, отдавал себе в этом отчет. Отсюда в тексте — постоянные извинения перед читателем, признания автора в отсутствии объективности, уверенность в надуманности причин, побудивших его взяться за рассмотрение этой проблемы. Попробуем разобраться в причинах столь осторожного поведения автора.
Размышляя над различиями между западным и восточным образами мышления, Бродский обращается к истории. В тридцать третьей главе, автор сообщает о том, что "судьба сыграла над Айя-Софией злую <.> шутку" и при одном из султанов христианский собор был превращен в мечеть. При взгляде на эту мечеть, в истории и внешнем облике которой соединились в единое целое христианская и мусульманская символика, возникает "ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой" (гл. 33).
Переплетающийся сложный узор ковра, "основным элементом которого служит стих Корана, цитата из Пророка", является орнаментом, отражающим принципы организации и уклад восточной жизни. Особенность восточной символики, по мнению Бродского, состоит в том, что фраза в ней используется с чисто декоративными целями. Повторяемая вновь и вновь на различных поверхностях (в камне, в вышивке или резьбе по дереву), она утрачивает свое первозданное значение, перестает восприниматься как речение, превращаясь в элемент украшения наряду с другими деталями интерьера: с вазой или, например, со статуей. Вот почему, по мнению Бродского, фразу на Востоке можно соотнести скорее не с мыслительной деятельностью (произнесенные Пророком слова не предполагают осмысления), а с механическим процессом ее воспроизведения — с вышивкой, гравировкой, резьбой. Пространственно-бытовое отношение к речению, свойственное восточному образу жизни, противостоит, по мнению Бродского, западной традиции абстрагирования: "Единицей — основным элементом — орнамента, возникшего на Западе, служит счет: зарубка — и у нас в этот момент — абстракции, — отмечающая движение дней. Орнамент этот, иными словами, временной. Отсюда его ритмичность, его тенденция к симметричности, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. Его сугубую не(анти)дидактичность. Его — за счет ритмичности, повторимости постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность" (гл. 34).
Зарубка, с помощью которой человек на Западе отмечает ход времени, представляет собой абстрактную сущность, существующую в его сознании и потому независимую от предметно-пространственных форм воплощения; отсюда — уверенность Бродского в том, что зарубки являются единицами не пространства, а времени. Лишенные смыслового значения зарубки составляют орнамент, который не задает жизненных устоев, не преследует дидактических целей, а сводится к графическому отражению ритма, определяющего течение жизни на Западе. Отсюда его динамичность, поступательное движение в противовес статичности, незыблемости, созерцательности восточной символики.
Западный способ выражения времени строится на принципах симметрии: все зарубки равны между собой, все отражают сменяющие друг друга отрезки времени. Жизнь здесь подчиняется движению, в котором каждый последующий шаг — механический или на уровне мышления — не повторяет предыдущий, а продолжает его.
Идея дня — основного элемента западного орнамента, по мнению Бродского, — более обширна, чем узор ковра, так как "включает в себя любой опыт, в том числе и опыт священного речения": когда-то произнесенное, речение остается привязанным к моменту его произнесения, то есть к единице времени. (Сравните: "Греческий бустрофедон[220] с его челночным движением говорит об отсутствии серьезных физических препятствий на пути продвижения руки писца. <.> Она настолько беззаботна в своем беге взад-вперед, что выглядит почти декоративно и вызывает в памяти надписи на греческой керамике, с их изобразительной и орнаментальной свободой". ("Девяносто лет спустя", 1994) (выделено — О.Г.).
В отличие от Востока, где жизнь определяется заданными раз и навсегда нормами, человек на Западе предоставлен самому себе, и потому его времяпровождение является делом глубоко индивидуальным. Противопоставление Востока и Запада вовсе не означает, что западные люди являются мыслителями, постоянно кочующими во времени, в отличие, например, от привязанного к пространству восточного человека. Наоборот, чаще всего люди на Западе довольствуются ощущением ритма, не вникая в то, что за этим ритмом скрывается, не задумываясь, какой смысл имеет и имеет ли вообще шаг, который они делают; и в этом отношении течение их жизни, хотя и более динамичное, чем на Востоке, по сути мало чем от него отличается. Однако дело здесь не в результате, а в заложенных изначально возможностях, и этих возможностей, по мнению Бродского, на Западе несравненно больше, чем на Востоке.

Эта книга посвящена нескольким случаям подделки произведений искусства. На Западе фальсификация чрезвычайно распространена, более того, в последнее время она приняла столь грандиозные размеры, что потребовалось введение специальных законов, карающих подделку и торговлю подделками, и, естественно, учреждение специальных ведомств и должностей для борьбы с фальсификаторами. Иными словами, проблема фальшивок стала государственной проблемой, а основу фальсификаций следует искать в глубинах экономического и социального уклада капиталистического общества.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».

Паскаль Казанова предлагает принципиально новый взгляд на литературу как на единое, развивающееся во времени литературное пространство, со своими «центрами» и периферийными территориями, «столицами» и «окраинами», не всегда совпадающими с политической картой мира. Анализу подвергаются не столько творчество отдельных писателей или направлений, сколько модели их вхождения в мировую литературную элиту. Автор рассматривает процессы накопления литературного «капитала», приводит примеры идентификации национальных («больших» и «малых») литератур в глобальной структуре. Книга привлекает многообразием авторских имен (Джойс, Кафка, Фолкнер, Беккет, Ибсен, Мишо, Достоевский, Набоков и т. д.), дающих представление о национальных культурных пространствах в контексте вненациональной, мировой литературы. Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Projet» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия и Института «Открытое общество» — Будапешт.
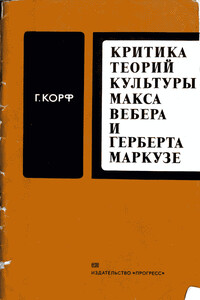
Аннотация издательства: «Книга представляет собой критический очерк взглядов двух известных буржуазных идеологов, стихийно отразивших в своих концепциях культуры духовный кризис капиталистического общества. Г. Корф прослеживает истоки концепции «прогрессирующей рационализации» М. Вебера и «критической теории» Г. Маркузе, вскрывая субъективистский характер критики капитализма, подмену научного анализа метафорами, неисторичность подхода, ограничивающегося поверхностью явлений (отрицание общественно-исторической закономерности, невнимание к вопросу о характере способа производства и т.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".