Интонация. Александр Сокуров - [22]
А Вагнер? Как вы к нему относитесь?
Мало кто в музыке мог выразить конечность человеческой жизни так, как Вагнер. Всегда, когда я вижу, чувствую или работаю с какими-то драматическими коллизиями, узлами, где речь идет об этой границе между жизнью и смертью, я понимаю, что, кроме Вагнера, никто вот так это не смог выразить. Почему? Может, потому что он был бесстрашным человеком, может, потому что он представлял вообще другую культуру. А может, потому что он никогда не знал, что такое жизнь в тоталитарных условиях… Ведь у Шостаковича тоже есть очень много этого, но у Шостаковича это сопровождается страхом. Как будто вот сидит он и ждет, что сейчас выломают дверь и ребятки в дурно пахнущих кожаных пальто заберут его, скрутят руки, увезут черт-те куда и будут кормить какой-нибудь баландой тюремной… Он великий, он гениальный, но страх этот у него во всем чувствуется. А у Вагнера этого нет. Вагнер гениален самой идеей смерти. Он смотрит ей в глаза. А Шостакович покрывается холодным потом, у него дрожат руки… Он не сдается, нет! Но он боится. Он не ведет со смертью диалог — а Вагнер ведет. Вагнер — это высшее выражение немецкого характера, самая художественная форма выражения сути немецкого характера. Ну, может быть, что-то подобное у Каспара Давида Фридриха в живописи было, когда он выражал сладость немецкой романтики и немецкой сентиментальности. Вагнер ничего не скрывал и рассказал о немцах в своей музыке столько же, сколько Достоевский о русских в своих романах, — столь же безжалостно и столь же открыто. Возьмем «Полет валькирий»: мы прекрасно понимаем, что́ он открыл нам в этой музыке и что такую музыку мог написать только человек, выражающий немецкий характер как жесткую пружину, которая может распрямиться в любой момент и будет распрямляться за счет огромной надежности огромное количество раз.
Вы всегда используете один и тот же фрагмент из музыки Вагнера — Траурный марш из «Гибели богов».
Это какая-то очень близкая мне по атмосфере мелодическая мысль — даже не эмоция, а мысль. Она очень поэтическая, очень открытая, потому что, с одной стороны, в ней есть много музыкального, но, с другой стороны, она очень открытая — как лист бумаги, на котором что-то крупно написано и хорошо читается. Вот для сложения кинематографической фразы иногда важны такие музыкальные поступки — то, чего у современных композиторов практически не бывает. К сожалению, большинство современных композиторов, как только встают в полный рост, сразу головой в потолок. И тут надо понять: потолок очень низкий или они слишком высокие? Они или переростки, или не в своей тарелке. Знаете, на флот не берут высоких ребят.
А как же Шнитке, если говорить о композиторах второй половины XX века?
Мне кажется, что Шнитке — это самый крупный из больших композиторов, который мог сформироваться, сложиться только благодаря существованию кинематографа. Влияние кинематографической рутины на него столь глубоко, столь всесторонне, что до конца дней своих он от этого кинематографического визуализированного стиля избавиться уже не мог.
Это минус?
Нет-нет, я не знаю. Думаю, это может утверждать только музыкант. Я лишь хочу сказать, что, работая с классической фразой, с классическим большим серьезным оркестром, с классической грамотой высокого уровня, он все время опускал это до уровня визуализации… Как будто у него все время есть экран, на который он смотрит и для которого он пишет. Что бы я ни слышал его, все время вижу, что вот эти лапки и хвостик торчат. До такой степени он был потрясен работой с кинематографом, так глубоко глотнул этого воздуха визуального.
Вы ведь были знакомы с ним.
Так случилось, что еще в Горьком, когда я был ассистентом Беспалова, я несколько раз звонил Шнитке. Мы договаривались с ним о встрече, о его возможной работе в кино. Он тогда уже был известен как автор музыки к кино, у него блестящая музыка к фильму «Спорт, спорт, спорт» Климова. Правда, немного оформительская, что и требовали с него… И Беспалов хотел, чтобы Шнитке писал музыку для документального кино, но не решался сам позвонить и попросил меня. Ну, я набрался наглости и позвонил. И вот долго, несколько лет мы с ним общались только по телефону. Он мне рассказывал, как купил белый рояль в первый раз в жизни… Таким образом, сначала было телефонное знакомство в Горьком, а уже потом, когда я жил в Ленинграде, мы с ним здесь встречались.
Слушали ли вы академическую музыку Шнитке, живя в Горьком?
Там была великолепная филармония с блестящим оркестром, и среди студентов разных вузов тогда принято было ходить на эти концерты. Я учился на историческом факультете и много видел студентов на этих концертах: и физиков, и математиков, и историков… Билеты были для нас дешевые, а иногда пускали просто бесплатно, даже когда залы были битком. И там всегда проходили все премьеры, в том числе Шнитке, да и Губайдулину исполняли… И вот тогда я к этому по-настоящему прирос, потому что у меня никакой базы музыкальной не было.
И все же, если сказать в целом, каково ваше впечатление о Шнитке?
Очень молчаливый человек, искренний, по-моему, и чувствовавший, что он здесь абсолютно не к месту. В Советском Союзе, в этой среде, где никто не понимает масштаба его озабоченности и никто не говорит с ним на языке, соответствующем его уровню. Он абсолютно одинокий был в этой среде, даже если учесть, что тогда была группа близких ему композиторов — Губайдулина, Артемьев и другие. Каждый по-своему значителен и велик, и у каждого из них была тяжелая судьба… Артемьев, как и Шнитке, все время «интриговал» с кинематографистами. Губайдулина вообще уехала из страны, что для ее творчества стало приговором, как мне кажется. Мне очень не нравятся (эмоционально) последние вещи ее, многое из того, что написано в Германии, но я страстный поклонник всего, что было создано ей в советский период («Рубайят» — это вещь совершенно великая). И в итоге никто из них не был замечен в решительной и основательной любви к большой симфонической форме. Никто не смог до конца осуществить своего предназначения и реализовать своих возможностей. Такое тяжелое время им досталось. Если уж Шостаковича могли раздавить, поставить на колени, заставить подпольно писать, смять его дух, то что говорить об этих людях?.. Они оказались менее устойчивыми.
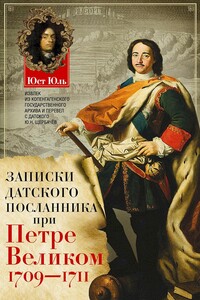
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
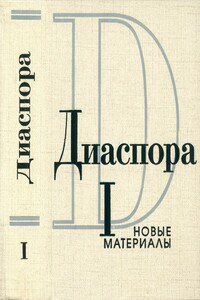
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.